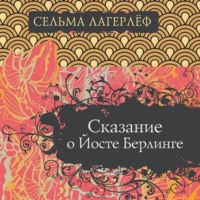Полная версия
Морбакка

Сельма Лагерлёф
Морбакка
Selma Lagerlöf
Mårbacka
Перевод со шведского Нины Федоровой

.
Original title: Mårbacka
Text © Selma Lagerlöf, 1922
© Нина Федорова, перевод на русский язык, 2011
© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2022
Поездка в Стрёмстад
Нянька
Была когда-то в Морбакке нянька, которую все звали Большая Кайса. Ростом добрых три локтя[1], лицо крупное, грубое, с суровыми, мрачными чертами, руки жесткие, в трещинах, за которые цеплялись детские волосы, когда она их расчесывала, и нравом угрюмая, хмурая.
Не сказать, чтобы такой человек аккурат годился в няньки, г-жа Лагерлёф действительно пребывала в изрядной нерешительности и наняла ее не сразу. Прежде Большая Кайса нигде не служила, взять хороший пример ей было не с кого, и вести себя как полагается она не умела, выросла-то на бедном арендаторском хуторе Баккарна, сиречь Горки, на лесистом холме по-над Морбаккой, в уединении, где поблизости никто не жил.
Однако выбирать, наверное, было не из кого, вот и взяли ее. Что она ни постель постелить не умела, ни изразцовую печь затопить, ни ванну приготовить, г-жу Лагерлёф не удивило, и научить ее означенным премудростям не составило труда. Опять-таки без возражений она каждый день подметала детскую, смахивала пыль и стирала детскую одежонку. Но чему г-жа Лагерлёф оказалась совершенно не в силах ее научить, так это обхождению с детьми. Большая Кайса и не думала с ними играть, ласкового слова никогда не говорила, ни одной сказки, ни одной песенки не знала. Конечно, дело тут не в умышленной грубости, просто по натуре своей она не любила галдежа, шумных забав и смеха. Предпочла бы, чтоб дети тихо-спокойно сидели каждый на своем стуле, не болтали и не шевелились.
Тем не менее г-жа Лагерлёф была вполне ею довольна. Что нянька не знает сказок – беда невелика, бабушка у детишек в Морбакке, слава богу, еще жива-здорова. Она приходила каждое утро, как только успевала одеться. И все дети сразу собирались подле нее, а она пела песенки и рассказывала сказки до самого обеда. Поиграть тоже было с кем – улучив свободную минуту, поручик Лагерлёф непременно затевал забавы.
Большой Кайсе – сильной, выносливой, исполнительной – можно было довериться целиком и полностью. Уезжая в гости, господа твердо знали: она не уйдет по своим делам, не оставит ребятишек одних в детской. Все бы замечательно, только вот мягкости ей недостает, резка больно. Детские руки сует в рукава неловко, рывком, начнет умывать, мыльная пена непременно попадет детям в глаза, станет причесывать – так и кажется, будто все волосы повыдергает.
Детская в Морбакке была светлая, теплая, просторная – лучшая комната во всем доме, но с одним недостатком: располагалась она не очень удобно, в мансарде, и, чтобы туда попасть, нужно было пройти весь нижний коридор, подняться по лестнице, а затем пройти через весь чердак. Крутую лестницу маленькие ножки одолевали с трудом, поэтому дети радовались, когда прежняя нянька брала кого-нибудь из них на руки и несла вверх по ступенькам, но Большая Кайса в подобных вещах явно не разбиралась. Вдобавок шагать через весь чердак было ужас как страшно, особенно вечером, в потемках, так что детским рукам прямо-таки обязательно требовалось уцепиться за большую руку, для надежности. Однако Большая Кайса, привыкшая к огромному темному лесу, определенно считала чердак местом мирным и безопасным. Она просто шла впереди и руки никому не давала. Будь доволен, если сумеешь ухватить ее за подол.
Кровати, на которых спали трое детишек, смастерил замечательный старый столяр из Аскерсбю – очень красивые, с перильцами на точеных жердочках вокруг изголовья. Правда, раздвижные, ведь детская хотя и просторная, но три кровати все же занимали многовато места, поэтому удобства ради на день их складывали. Само по себе это вовсе неплохо, но, как ни старался замечательный старый столяр из Аскерсбю, вышло у него не очень удачно: среди ночи кровати частенько ни с того ни с сего разъезжались.
Тот, с кем приключалась эта беда, конечно же, разом пробуждался от сладких снов и, обнаружив, что кровать развалилась надвое, пробовал свернуться калачиком на верхней половине, в надежде, что сумеет вновь заснуть. Задачка, право слово, не из легких, немного погодя бедолага вытягивал ноги, которые оказывались на весу, и опять ждал, когда придет сон, но в итоге совсем просыпался и тогда наконец волей-неволей вставал, чтобы привести кровать в порядок. Когда же попытки как будто бы завершались благополучно и кровать с постелью стояла как надо, владелец со всею осторожностью укладывался и с огромным удовлетворением вытягивал ноги. Все шло хорошо, потихоньку подкрадывался сон, и тут он имел неосторожность повернуться. Крак! – кровать сызнова разъезжалась, и прощайте надежды, поспать этой ночью не удастся.
Подобные ночные перипетии не мешали Большой Кайсе крепко спать, а малышам в голову не приходило разбудить ее и попросить о помощи. Прежняя-то нянька мигом просыпалась от шума развалившейся кровати и в два счета все исправляла, без всяких просьб.
Над детской располагалась маленькая, тесная чердачная каморка, полная старых сломанных ткацких станков и прялок, а среди этого хлама жила сова-неясыть. Диву даешься, какой шум могла поднять одна-единственная птица. Ночами детям казалось, будто над головой перетаскивают громадные, тяжелые бревна. Они пугались шума, но прежняя нянька смеялась и говорила, что бояться нечего, это всего-навсего неясыть. А вот Большая Кайса, хоть и выросла в лесу, боялась всех живых тварей. Для нее они были словно злые духи, и, когда неясыть будила ее ночью, она доставала Псалтирь и начинала читать. Успокоить детишек она, разумеется, не могла, наоборот, пугала, так что бедная неясыть вырастала до размеров исполинского чудовища с головой тигра и крыльями орла. Описать невозможно, какая дрожь пробирала их до глубины души при мысли, что прямо над головой живет этакое страшилище. Вдруг оно проделает когтищами в потолке дыру и заявится к ним!
Никак нельзя сказать, будто Большая Кайса пренебрегала детьми или колотила их. Это ж ни на что не похоже, верно? Прежняя нянька не ахти как следила, чтобы дети не поранились и не перепачкались, зато обходилась с ними очень ласково.
Величайшим своим сокровищем дети в ту пору считали три маленьких деревянных стульчика. Подарок того самого замечательного старого столяра из Аскерсбю. Они не знали, было ли это возмещением за неудачу с кроватями, но думали, что такое вполне возможно. Стулья у него получились на славу, крепкие, легкие. Можно было использовать их как столы и санки, скакать на них по комнате, залезать на сиденья и спрыгивать на пол, класть на бок и устраивать из них хлев и конюшню – словом, они годились для чего угодно.
Но только если перевернуть стульчики, становилось понятно, почему дети так невероятно ими дорожат. На оборотной стороне каждого сиденья красовался портрет ребенка. Один изображал Юхана, мальчугана в синем костюмчике, с громадным кнутом в руке, другой – Анну, очаровательную девчушку в красном платьице и желтой соломенной шляпке с широкими полями, нюхающую букет цветов, а третий – Сельму, совсем маленькую девочку, в синем платьице и полосатом фартучке, ни в руке, ни на головке у нее ничего не было.
Рисунки показывали, кому принадлежат стулья, и по этой причине дети считали их своей собственностью, но собственностью совершенно иного рода, чем одежда и прочие вещи, полученные от родителей. Одежда переходила от одного к другому, подтверждения тому они видели постоянно, красивые игрушки взрослые запирали в шкафу или ставили в гостиной на угловую этажерку, а вот стулья, помеченные их портретами, никто и не подумает у них отнять.
Вот почему Большая Кайса поступала прескверно, когда иной раз клала все три стула на высокий березовый комод, куда дети дотянуться не могли. Пусть даже она только что вымыла полы, а на влажных половицах оставались некрасивые следы, когда дети тащили стулья по полу, однако прежней няньке никогда не хватало духу отобрать у малышей стулья, хотя бы и ненадолго.
Г-жа Лагерлёф, конечно, видела, что нянька не умеет обращаться с ее детишками. Они побаивались Большую Кайсу, не любили оставаться с нею. Но няньку наняли на год, и пока срок не истек, уволить ее нельзя. Г-жа Лагерлёф надеялась, что летом станет получше, ведь тогда дети целыми днями играли на воздухе и в основном обходились без няньки.
Как-то утром в самом начале лета случилось так, что младшую девчушку оставили в детской одну. Толком не проснувшись, она сидела в своей раздвижной кроватке, недоумевала, куда могли подеваться все люди, а одновременно ей было до странности не по себе и хотелось спать.
Когда она понемножку пришла в себя, то вспомнила, что раньше этим утром она и другие дети вместе с поручиком Лагерлёфом ходили в Ос-Брунн купаться. По возвращении Большая Кайса уложила всех троих в кровати, прямо в одежде, чтобы они перед обедом чуток поспали.
Однако сейчас кровати Анны и Юхана пустовали, и Сельма поняла, что они встали и ушли.
Наверно, уже играют в саду. Ее немного раздосадовало, что они ушли и оставили ее в детской одну. Но с этим ничего не поделаешь. Надобно выбраться из кровати и идти за ними.
Сельме было три с половиной года, она вполне могла и дверь открыть, и спуститься по крутой лестнице. Только вот идти через весь чердак в полном одиночестве – предприятие весьма рискованное; она прислушалась: может, кто-нибудь все-таки придет за нею?
Нет, шагов на лестнице не слышно, придется действовать самостоятельно. Но при всем старании выбраться из кровати не удавалось.
Она пробовала снова и снова – и каждый раз падала на подушку. Ноги совсем как чужие. Не подчинялись.
Малышку обуял ужас. Чувство бессилия, охватившее ее, оттого что тело не желало повиноваться, было настолько жутким, что она запомнила его очень надолго, на всю жизнь.
Разумеется, она расплакалась. От отчаяния и заброшенности, а рядом ни одного взрослого, что помог бы ей и утешил.
Впрочем, в одиночестве она оставалась недолго. Дверь отворилась, на пороге стояла Большая Кайса.
– Разве ты не спустишься вниз обедать, Сельма? – спросила она. – Старшие-то уже…
Большая Кайса осеклась. Малышка думать забыла о том, что в дверях стоит суровая нянька. В своем огромном отчаянии она видела только, что пришел взрослый человек, который может ей пособить, и протянула к няньке руки.
– Иди сюда, Большая Кайса, забери меня! – воскликнула она. – Забери!
Когда Большая Кайса подошла к кровати, девчушка обхватила ее за шею и крепко-крепко прижалась, чего до сих пор ни один ребенок не делал. Большая Кайса легонько вздрогнула. И не вполне твердым голосом спросила:
– Что стряслось, Сельма? Ты захворала?
– Я не могу идти, Большая Кайса, – ответила девочка.
Тут сильные руки с легкостью подхватили ее, будто котенка, а суровая и серьезная Большая Кайса сию же минуту уразумела, как должно говорить с ребенком.
– Плакать тебе больше не о чем, Сельма, – сказала она. – Я снесу тебя вниз.
И все малышкины горести вмиг как рукой сняло. Страхи и злоключения были забыты. Ничего, что она сама идти не может, ведь Большая Кайса отнесет ее на руках! Никаких объяснений не потребовалось. Она и без того поняла, что, если имеешь такого сильного и замечательного друга, как Большая Кайса, все беды нипочем.
Важный гость
Юхан и Анна оказались предоставлены сами себе из-за огромного переполоха, вызванного болезнью Сельмы.
Оно и понятно. Юхану уже сравнялось семь, и г-н Тюберг учил его читать. Он ведь мальчик, и его считали чуть ли не самым старшим; хотя у него имелся старший брат, но тот дома появлялся редко, жил у маминых родителей в Филипстаде. А теперь вот про Юхана все забыли, занимались только младшей из девочек.
Что до Анны, то ей было пять лет, она уже и шить умела, и вязать крючком, и с виду прехорошенькая – старшая дочка, мамина любимица. Но что за радость от всего этого, коли Сельма надумала хворать?
Взрослые ужасно переполошились, увидев ребенка, который не может ходить.
– Как же она, бедняжка, жить-то будет? – говорили они. – Ничего на свете не увидит, будет сиднем сидеть на одном месте. Замуж не выйдет, позаботиться о себе не сможет. Право слово, тяжко ей придется.
Все относились к больной девчушке ласково и сочувственно, и против этого Юхан с Анной нисколько не возражали. Но нельзя же напрочь забывать, что есть и другие дети.
Хуже всех обстояло с Большой Кайсой. Она таскала Сельму на закорках, без умолку с нею сюсюкала, твердила, что она сущий ангелок Господень. Однако ж и папенька, и маменька, и бабушка, и тетушка вели себя не намного лучше. Разве не велели они замечательному аскерсбюскому столяру смастерить для Сельмы тележку, в которой Большая Кайса повсюду ее возила? И разве Юхану с Анной хоть когда-нибудь дозволялось позаимствовать эту тележку, чтобы возить песок? Нет, тележка для Сельмы, незачем ее пачкать.
Юхан и Анна знали, что раньше, когда Сельма могла ходить, ничего особенного в ней вообще не находили, но теперь, когда в доме бывали гости, ее непременно приносили, чтобы они посмотрели на нее да повернули так и этак. А если какая-нибудь крестьянка заходила на кухню, Большая Кайса мигом была тут как тут, показывала ей Сельму. Самое же огорчительное, что Большая Кайса непременно рассказывала, какая она милая и необыкновенная. Мол, никогда не плачет, никогда не унывает, хоть и не может ходить. Почему бы ей не быть милой? – думали Юхан с Анной. При такой-то жизни! Целый день ее на руках носят, целый день развлекают да балуют.
Н-да, Юхан и Анна единодушно решили, что Большая Кайса совершенно несносна. Она не могла стерпеть, что г-жа Лагерлёф сшила Анне платье наряднее, чем Сельме, а если кто-нибудь называл Юхана послушным и учтивым, не упускала случая заметить, что тому, кто может ходить и двигаться как угодно, было бы стыдно проявлять неучтивость.
Снова и снова из-за Сельмы посылали в Сунне за старым доктором Хедбергом, и Юхан с Анной полагали это вполне оправданным. Не возмущались они и когда совета спрашивали у Хёгмановой Инги, которая частенько заходила в усадьбу заговаривать свиней да коров. Но, по их мнению, бабушка, экономка и Большая Кайса зашли слишком уж далеко, когда однажды в отсутствие поручика Лагерлёфа порешили призвать в Морбакку опасную старуху-ворожею с хутора Хёгбергссетер, ту самую, что по Великим четвергам верхом на помеле летала на шабаш к чертям. Юхан с Анной слыхали, что она способна подпалить дом одним только взглядом. И пока она находилась в Морбакке, оба места себе не находили. По их разумению, Большая Кайса поступила неправильно, нельзя приводить сюда этаких страшных людей.
Конечно, они желали Сельме здоровья. Как никто другой хотели, чтобы сестренка поправилась. Но им даже в голову не приходило, будто совершенно замечательно, что она сумела подхватить хворь, которую никто излечить не может. А вот Большая Кайса именно так и думала. Когда ни доктор Хедберг, который много раз избавлял их от кашля и боли в груди, ни Хёгманова Инга, которая всегда справлялась со свиньями и коровами, ни опасная ведьма с хутора Хёгбергссетер, которая умела заставить помело летать, не смогли помочь Сельме, Большая Кайса решила, что девчушка совсем уж особенная, ни на кого не похожая. В конце концов, после того как поручик Лагерлёф съездил с дочкой в Карлстад и показал ее полковому лекарю Хааку, лучшему доктору во всем городе, и тот опять же ничего сделать не смог, Большая Кайса совсем зазналась, того гляди, лопнет от важности. Но разве не лучше, если б Сельминой болезни все ж таки пришел конец? По крайней мере, им так казалось.
Юхан и Анна говорили, что самое неприятное во всем этом было то, что Большая Кайса вечно сюсюкала с Сельмой и вконец ее разбаловала. Как ни мала, девчушка смекнула, что ей незачем быть такой же послушной, как другие дети, которые могут стоять на ногах. Прежде всего, незачем есть то, что не нравится. Когда г-жа Лагерлёф ставила перед ней вареную морковь, шпинат, крутые яйца или пивной суп, ей вправду не обязательно было съедать все, как раньше. Едва она отодвигала тарелку, Большая Кайса немедля шла к экономке на кухню и приносила что-нибудь повкуснее.
Мало того, Юхан и Анна заметили, что, когда ни доктор Хедберг, ни Хёгманова Инга, ни опасная ведьма с хутора Хёгбергссетер не сумели ее вылечить, она возомнила себя настолько особенной, что вообще перестала есть обыкновенную будничную пищу, подавай ей жареного цыпленка, молодой картофель да землянику со сливками. А после поездки в Карлстад, когда и доктор Хаак ничего сделать не смог, она требовала только пирожки и варенье.
Юхан с Анной слышали, что карлстадская тетушка Нана Хаммаргрен пришла из-за Сельмы в полное отчаяние. Пророчила, что девочка умрет с голоду. И Юхан с Анной единодушно решили, что если в скором времени не случится какой-нибудь перемены, то ничего хорошего ждать не приходится.
Однако ж перемена в самом деле случилась.
Как-то утром Большая Кайса посадила малышку на закорки и отнесла в комнату при кухне. Там стояла большая белая раздвижная кровать, где обычно спала старая г-жа Лагерлёф, вот к этой кровати Большая Кайса и подошла.
– Тут ты кой-чего увидишь, Сельма, – сказала она, усаживая девчушку в подушки.
Кровать была застлана простыней, хотя ночью в ней никто не спал, да и сейчас тоже никого не было. Старая г-жа Лагерлёф, которая обыкновенно чуть не до обеда ходила неприбранная, сидела полностью одетая на диване, а мамзель Ловиса Лагерлёф, тоже обитавшая в этой комнате, сидела рядом с нею, опять же чин чином одетая. Обе выглядели радостными и довольными, а когда девчушку усадили в постель, встали и подошли к ней.
– Знаешь, нынче ночью к нам прибыл важный гость, – с лукавой улыбкой сказала бабушка. И Сельма тоже засмеялась, ведь что может быть лучше гостей в усадьбе.
Затем она огляделась по сторонам, размышляя, где же этот важный гость. Здесь, в комнате при кухне, его, во всяком случае, не видно. Ни в желтом угловом шкафу, ни за высокими напольными часами, ни под тетушкиной шифоньеркой. В этой комнате есть вообще только одно место, чтобы спрятаться, – крытая лестница в подвал, но ведь важный гость туда не полезет.
Странно все это, право слово. Почему ее усадили в бабушкину кровать и почему остальные стоят и смотрят на кровать, будто важный гость именно тут и находится? Она сидела в полном недоумении, переводя взгляд с одной женщины на другую. Тогда мамзель Ловиса наклонилась и немножко подвинула подушки – и девчушка увидела, что рядом с нею в постели лежит продолговатый сверточек, но присматриваться к нему не стала. Бабушка ведь сказала, что гость важный, а значит, наверняка имела в виду приезжего издалёка, у которого с собой большущие кульки с карамельками и игрушки для детей. Вот такого гостя Сельма и высматривала.
– Он там? – спросила она, показывая на дверь залы. Навострила уши: не слышно ли голосов в соседней комнате. Ее снедало огромное любопытство, поскольку все были такие радостные и взволнованные.
– Да вот же она, рядом с тобой, – сказала бабушка, повернув продолговатый сверток. И девчушка увидела, что у свертка две крохотные ручки и сморщенное личико.
Сельма бросила на младенчика презрительный взгляд, ей уже доводилось видеть таких малявок, и они ее не интересовали. Она отвела глаза, мыслями целиком с гостем, у которого кульки карамелек.
– Смотри, нынче ночью к тебе пришла маленькая сестренка, – сказала тетушка Ловиса. – Будь к ней добра.
К такому повороту девчушка была совершенно не готова. Конечно, она бы не возражала против еще одной сестренки, если бы та умела разговаривать и ходить. Но грудной младенец ее вовсе не интересовал.
Однако… мало-помалу она сообразила, что никакой важный гость в усадьбу не приезжал. Бабушка имела в виду эту бедную кроху. А у той, понятно, карамелек и в помине нету.
Когда она все это осознала, ее захлестнуло огромное разочарование. Она горько заплакала, и Большая Кайса снова посадила ее на закорки и вынесла на кухню, не то ведь важного гостя разбудит.
По правде сказать, плакала она не без повода, потому что теперь ее счастливому владычеству настал конец. Большой Кайсе пришлось помогать г-же Лагерлёф ухаживать за новорожденной, ведь та еще беспомощнее и неразумнее, чем Сельма. С малюткой не договоришься, так что ждать да терпеть выпадало ей.
С тех пор и гостям Сельму показывали все реже. Теперь любовались и восхищались младенцем. Всю Сельмину исключительность как ветром сдуло, она значила ничуть не больше, чем Анна или Юхан. И в следующем году выдалось много печальных минут. Жизни на пирожках да варенье пришел конец, более того, когда г-жа Лагерлёф ставила перед нею вареную морковь, шпинат или гороховые лопатки, никто и не думал забирать у нее тарелку и подавать что-нибудь другое – хочешь не хочешь, ешь что дают.
И если платье у Анны было наряднее, чем у нее, никто слова не говорил. Наоборот, все считали, что так и надо, ведь Анна как-никак старшая дочка.
Да, порой в душе царил полный мрак, ведь она начала подумывать, что Большая Кайса любит младенчика не меньше, чем ее.
Поездка в Карлстад
Большая Кайса и ее подопечная отправились в путешествие. Сидели на козлах большой брички, подле конюха Магнуса, ему доверили править тройкой лошадей на ужасной дороге в Карлстад, и от сознания ответственности он слова вымолвить не мог.
В бричке, лицом к козлам, поместились г-жа Луиза Лагерлёф и мамзель Ловиса Лагерлёф, а напротив них – Юхан и Анна. Конечно, куда веселее, сидя на козлах, смотреть на лошадей, нежели всю дорогу обретаться в бричке, под навесом, и Юхан охотно бы устроился рядом с кучером, но г-жа Лагерлёф сказала, что Большую Кайсу на его место не втиснешь, да и Сельма, разумеется, будет там же, где Большая Кайса. Поручик Лагерлёф тоже не остался в стороне от путешествия, однако выехал вперед на своей маленькой двуколке.
Уже год минул с тех пор, как у девчушки приключилась неприятность с ножкой, и стоять она по-прежнему не могла. Вот и решили предпринять серьезную попытку справиться с недугом, потому и собрались на западное побережье. Среди путешествующих хворала только она, однако ж летние купания, верно, каждому пойдут на пользу.
Так или иначе, сидя на козлах, девчушка совершенно забыла про свое недомогание. Думала лишь о том, что она и Большая Кайса вместе уезжают, а маленькая сестренка остается дома. Ее переполняла надежда, что вернутся утраченные счастливые деньки, забыть которые она не могла.
Крепко прижавшись к Большой Кайсе, она обнимала няньку за шею и поминутно спрашивала, рада ли та, что теперь никто не помешает им быть вместе.
Большая Кайса не отвечала, но Сельма нисколько не огорчалась. Большая Кайса никогда не отличалась разговорчивостью.
Карлстадский тракт в те времена, как и сейчас, изобиловал подъемами и спусками. То змеился по холму Бевиксбаккен, то целых полмили[2] шел по Гуннарсбаккен, то круто взбегал к Сундгордсбергу, а самое опасное место называлось Клева, там дорога проходила по кромке обрыва. Да какого! – ни дать ни взять едешь меж небом и землей. Поручик Лагерлёф приказал заложить тройку лошадей, тогда, мол, ехать легче, но что кучер, что лошади к такому не привыкли.
Малышка Сельма радовалась, что Большая Кайса снова в полном ее распоряжении, и радость эта, пожалуй, еще увеличивалась оттого, что сидела она рядом с нянькой на кучерских козлах и смотрела на тройку норовистых лошадей, которые играючи тянули за собой тяжелую бричку, а когда на всем скаку сворачивали, экипаж накренялся и катил на двух колесах. Сплошное разнообразие, не заскучаешь; то лошади, выпрямив передние ноги и осев на круп, скользили под горку, то, когда спуск был чересчур уж крутой, конюх Магнус привставал на козлах и отчаянно охаживал их кнутом, чтоб бежали во весь опор, иначе высокая бричка кувырнется на запряжку.
Посреди такого вот замечательного спуска девчушка опять обернулась к няньке:
– Ты не рада быть только со мной, Большая Кайса? Не рада, что младшая сестренка осталась дома, а?
Ответа и на сей раз не последовало; когда же Сельма с недоумением глянула няньке в лицо, то обнаружила, что Большая Кайса сидит крепко вцепившись в козлы, вытаращив глаза, стиснув губы, а щеки у нее покрыты землистой бледностью.
– Ты не рада, Большая Кайса? – повторила девчушка, хотя уже видела, что нянька совсем не рада, и едва не заплакала от этой своей ошибки.
Но тут Большая Кайса наконец отозвалась:
– Ну-ка, угомонись, Сельма! Не след болтать посередь этакой кручи. Ох, никогда мне так худо не бывало, кабы не ты, я бы давно слезла и ушла домой.