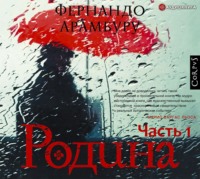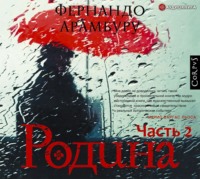Полная версия
Стрижи
Амалия, я не знаю, доведется ли тебе когда-нибудь прочесть эти записи. Если ты их читаешь, значит, меня уже нет в живых. Я хочу, чтобы ты знала, что причинила мне много зла. Если ты именно к этому и стремилась, то своего добилась. Готов признать твою победу, хотя сомневаюсь, что она принесла тебе хоть какую-нибудь пользу.
30.В баре у Альфонсо Хромой сообщил мне, что позавчера собрался с духом и показал болячку своему лечащему врачу. Он пошел к нему, потому что по-настоящему испугался. От раны вроде бы начал исходить неприятный запах. Мне же достаточно было заметить под глазами у друга темные круги, чтобы понять, что он уже несколько ночей почти не спит. По его словам, заснуть ему мешает страх. Он часами ворочается в постели, в буквальном смысле не находя себе места от тревоги, и порой среди ночи идет в ванную, чтобы рассмотреть язву в зеркале с увеличением, но это не только не обнадеживает его, а наоборот, доводит до паники.
С этим врачом Хромой вместе учился в школе. И на правах старого знакомого явился к нему в кабинет без предварительной записи – просто позвонил по телефону и договорился. Диагноз доктор не поставил, зато прописал антибиотики. Хотя не нашел у Хромого ничего серьезного.
– Обычное воспаление, – сказал он. – Обойдемся лекарствами, и, если не будет никаких неожиданностей, через несколько дней образуется корка.
В тот вечер в баре Хромой выглядел вполне довольным. И не просто довольным, а счастливым. На мой взгляд, истинное счастье дается уверенностью, что ты победил злой рок. Без дозы страдания не может зародиться счастье ни в одном из его многочисленных вариантов. Быть счастливым не значит успокоиться от сознания собственного счастья. Не бывает абсолютного счастья. Не бывает счастья как такового. Счастье, оно здесь и сейчас. Было и прошло, поэтому ты должен генерировать его снова и снова, если желаешь им наслаждаться. Пожалуй, я предложу эту тему для обсуждения своим ученикам в первый же день после каникул. Высшая степень счастья, по-моему, заключается не в удачном стечении обстоятельств, не в миге оргазма, не в исполнении желания или удовлетворенном тщеславии, хотя какую-то долю счастья все это приносит. На мой взгляд, счастье очень верно определил один писатель, какой именно, не помню: это острое физическое и нравственное наслаждение, испытанное после того, как тебе в ботинок попал камешек, ты, мучась от боли, прошел километр и наконец – вот она, главная точка! – разулся.
31.Я никогда не был склонен распахивать посторонним двери в свой внутренний мир. Эти записки – совсем другое дело. В них я позволяю себе предельную откровенность, поскольку то, что описываю здесь, никому конкретно не адресовано. Честно сказать, я и сам не смог бы объяснить, почему всю жизнь отказывался быть искренним с теми, кто меня окружал. Наверное, это связано с зародившейся еще в раннем детстве привычкой постоянно держать оборону. Или я насквозь пропитан страхом – страхом показаться смешным, из-за чего люди от меня могут отвернуться.
Исключение я время от времени делаю только для Хромого – видимо, потому что чувствую себя обязанным хотя бы в малой степени отплатить за его откровенность со мной. Даже в наши с Амалией благополучные времена я никогда не рассказывал ей больше того, что было совершенно необходимо в семейных отношениях. Во-первых, не хотел давать лишний повод осудить меня. Во-вторых, за ней водилась отвратительная привычка во время наших частых ссор использовать в качестве оружия сделанные мною же когда-то раньше признания, не церемонясь с моими чувствами и даже насмехаясь над ними.
С Хромым такое просто немыслимо. Мой друг никогда не считал себя ни образцом для других, ни учителем жизни. Кроме того, на него можно положиться – могила! Поэтому я испытываю к нему доверие, какого не испытывал никогда и ни к кому. И совершенно уверен, что рассказанное ему при нем и останется. Надеюсь, он так же полагается на меня и поэтому часто делится со мной своими тайнами, хотя порой, если честно, их постыдность просто шокирует. Иногда он испытывает жгучее чувство вины, иногда попадает в неприятные ситуации, из которых сам не может найти выход, почему и просит совета. Сам я, разумеется, подобной откровенности себе не позволяю. В моем мозгу всегда включены фильтры, диктующие, что можно говорить, а что нет; и тем не менее никто не знает о моей жизни и моих мыслях столько, сколько Хромой.
Я очень высоко ценю нашу с ним дружбу. И вообще, считаю, что дружба важнее любви. Любовь, чудесная поначалу, потом приносит много проблем. Я, например, по прошествии какого-то времени уже не знаю, что с ней делать, и в конце концов просто от нее устаю. А вот дружбой трудно перенасытиться. Дружба дает мне спокойствие. Я могу послать Хромого в задницу, он может послать меня еще дальше, и на нашей дружбе от этого не появится ни единой трещинки. Мы не обязаны требовать друг у друга отчета, не обязаны постоянно поддерживать связь и твердить, что мы друг для друга значим. В любви же надо вести себя с оглядкой. В любви мне вечно казалось, будто меня тянут на веревке, а я, уже весь взмыленный, должен во что бы то ни стало поддерживать все тот же накал эмоций и ни в коем случае не обмануть ожиданий любимой женщины. А еще мы боимся, как бы все иллюзии и усилия не закончились пшиком. Беда в том, что именно пшиком они всегда и заканчивались.
Сентябрь
1.Как-то утром мне пришлось провести группу учеников по залам музея Прадо. Завуч попросил меня и еще одну преподавательницу немного попасти это большое стадо. Кто-то предпочел бы отказаться от подобного задания, но я, прикинув все за и против и взвесив возможные последствия, решил, что выгоднее не спорить. К тому же речь, конечно, шла вовсе не о просьбе, а о вежливом, в завуалированной форме отданном приказе, который не подлежал обсуждению.
В школе я тогда проработал еще меньше трех лет, готовился вот-вот стать отцом и чувствовал, что необходимость каждый месяц приносить домой жалованье крепко держит меня за горло. Мне нужно было выслужиться, зарекомендовать себя с лучшей стороны – одним словом, проявить покорность. Сегодня я совершенно уверен, что именно таким образом мы попадаем в социальную западню, губим свои молодые годы и предаем свои идеалы.
В этом и заключается зрелость – в готовности смириться и в один прекрасный день сделать то, что тебе делать не хочется, а потом повторять то же самое снова, и снова, и снова, до пенсии и после выхода на пенсию. Ради выгоды, по необходимости, из дипломатических соображений, но в первую очередь – из трусости, ставшей уже привычной. Если вовремя не спохватиться, кончится тем, что ты проголосуешь за партию, которую презираешь.
Я ненавижу ходить на экскурсии с учениками, но в тот раз, когда я повел их в музей, нам хотя бы не пришлось уезжать из города. Утешением мне служила мысль, что можно будет полюбоваться шедеврами, узнать что-то новое от заказанного нами экскурсовода и уже к обеду вернуться домой. С самого начала преподавательской деятельности у меня было четкое представление о моих обязанностях: явиться в школу, провести уроки – и немедленно домой. В качестве молодого учителя я принимал участие – и первое время с большой охотой – в программах по обмену с одной из школ Бремена, но на четвертый год это дело бросил. На педсоветах и родительских собраниях мне не хватает воздуху. От проверки контрольных работ и составления отчетов у меня разливается желчь. От каждодневной болтовни в учительской тошнит, и скрывать это становится все труднее. Я не считаю себя мизантропом, хотя многие коллеги относят меня именно к такой категории. Я просто устал. Очень устал. Устал от многого, но особенно от ежедневных контактов с людьми, которые мне неинтересны. А выдергивание с привычных классных занятий я воспринимаю так, словно мне спящему выливают на голову ведро холодной воды.
Я не владею искусством устанавливать в классе тишину. Это не мое дело. Что бы ни утверждало школьное начальство, я иду на урок не для того, чтобы учить подростков хорошо себя вести, а чтобы преподавать им свой предмет, к чему тщательно готовлюсь и за что мне платят зарплату. Родители, если бы они были по-настоящему озабочены воспитанием собственных чад, должны были бы в срочном порядке нанять охранников, вооруженных дубинками и перцовыми газовыми баллончиками и обученных поддерживать дисциплину, пока преподаватели будут заниматься преподаванием, как если бы они, то есть преподаватели, являлись частью школьного инвентаря. Разве кто-нибудь ждет от классной доски или проектора, что они начнут наводить порядок?
Сегодня я решил не ограничиваться ежедневным глотком горечи, а восстановить на страницах этого дневника часть беседы, которая состоялась у меня в кафетерии музея с моей коллегой в те три четверти часа, что мы предоставили ученикам после обхода залов с экскурсоводом, чтобы они в свое удовольствие посмотрели картины. Или отправились тайком курить в туалет. С них станется.
Коллегу, о которой я веду речь, царствие ей небесное, звали Марта Гутьеррес, и она была на восемь лет старше меня. Мне запомнилась ее особая манера перемешивать ложечкой кофе. Она делала это долго и очень медленно, во всяком случае, гораздо медленнее, чем делают другие, и если одновременно что-то говорила, то казалось, будто ударные слоги она отбивала этой самой ложечкой.
В музейном кафетерии Марта Гутьеррес рассказала мне кое-что о своей личной жизни. Брак ее распадался, и, возможно, у нее не было никого, кому она могла бы пожаловаться на свои напасти. Я с удовольствием вспоминаю эту женщину, уже, к несчастью, умершую. В самом начале, когда я был еще новичком в профессии, она великодушно взяла меня под свое покровительство, ввела в курс школьных дел, и ее советы и наставления помогли мне избежать многих ошибок.
Постепенно разговор наш принял достаточно откровенный оборот, и тогда я спросил, почему, на ее взгляд, жены по прошествии определенного времени отказываются от фелляции. Я рискнул задать подобный вопрос после того, как услышал от нее некоторые признания чисто постельного толка. Не помню в точности ответа. Она сказала что-то вроде того, что фелляция – это свинство, она унизительна и способствует переносу инфекций. Но согласилась со мной, когда я возразил, что по-настоящему влюбленные женщины не отвергают такую практику.
– Вот именно что по-настоящему влюбленные, – повторила она за мной.
Потом призналась, что уже четыре года не подпускает к себе мужа. Я мгновенно вообразил, как те же самые слова произносит Амалия. Тогда у меня еще теплилась надежда: а вдруг нежелание моей жены спать со мной – дело временное и оно связано с плохим самочувствием из-за беременности, как и ее просьба разбежаться по разным спальням. До чего наивным я порой бывал.
2.Я очень переживал за Амалию. Парализованный ужасом стоял в родильной палате, видел кровь Амалии, ее муки и всеми силами старался не мешать медикам. Я держал в своей руке горячую, потную руку жены, смотрел на искаженное болью лицо, слышал крики, судорожное дыхание и клялся себе: «Эту женщину я буду любить всю жизнь, что бы ни случилось». Почему я не сказал этого ей самой? Постеснялся. В доме моих родителей не было в обычае выражать свою любовь словами. Я никогда не слышал, чтобы отец сказал маме: «Я тебя люблю». И она тоже никогда не говорила ему ничего подобного. Наверное, потому что на самом деле они и не любили друг друга. Но… А нас-то с Раулито они любили? Нас кормили, одевали, дарили нам подарки ко дню рождения и Дню волхвов[4], и поэтому мы должны были считать, что нас любят. Я по-настоящему сожалею, что так и не развил в себе способность говорить окружающим о своих чувствах к ним – искренне и прямо. Как было бы хорошо, если бы во время трудных родов Амалии я смог бы признаться ей, что люблю ее до слез. Возможно, это многое изменило бы к лучшему. Но ничего подобного я из себя выдавить не сумел – не получилось. Кроме того, мне было стыдно проявить слабость на глазах у тех, кто принимал у моей жены роды.
Когда Амалии вкалывали в спину обезболивающее, меня попросили отойти в сторону. И попросили не слишком вежливо: – Не мешайте!
Но Амалия поняла их неправильно:
– Тони, не уходи, не уходи, пожалуйста. – Ее голос дрожал от страха.
И прежде чем я сказал хоть слово, кто-то поспешил объяснить ей:
– Успокойтесь, сеньора, ваш муж никуда не уходит.
Я увидел, как ей сделали несколько отметок в нижней части спины. Ее нагота, раньше будившая во мне плотское желание, теперь вызывала глубокое сострадание. И еще заставляла чувствовать себя виноватым. В одну из ночей я испытал оргазм, а она забеременела и теперь должна страдать.
Когда Амалии вводили катетер между позвонками, я в ужасе воздел глаза к потолку, так как плохо понимал, что они делают. Да, во время беременности жены мы с ней вместе читали специальную литературу, но, должен признаться, тема меня не слишком увлекала, поэтому должного внимания я не проявлял и теперь не мог сообразить, зачем ей делают укол в спину.
Потом ситуация осложнилась. Ребенок застрял в родовых путях и начал испытывать нехватку кислорода. Акушерка ловко рассекла роженице промежность, и вдруг показалась головка с темными волосами. Мой сын. Потом он опять скользнул внутрь и пропал из виду. Но наконец все-таки вылез наружу – мокрый и посиневший. У меня так дрожали руки, что я отклонил предложение перерезать пуповину. Медсестра положила новорожденного матери на грудь. Потом его завернули в белую пеленку и дали подержать мне, пока Амалии накладывали швы на разрез. Младенец пронзительно попискивал, и тогда эти звуки были для меня волшебными, потому что свидетельствовали: он жив и здоров. Вскоре, когда его привезли домой, крики сына превратились для нас в настоящую пытку, они не давали нам спать по ночам и доводили до безумия. Мы без конца ссорились. И так продолжалось изо дня в день.
3.Третье анонимное послание было написано от руки большими буквами. В нем говорилось:
Когда ты начнешь наконец следить за поведением своего сына? Может, пора привязать его на всю оставшуюся жизнь к какому-нибудь столбу? Сколько людей молятся Богу, прося, чтобы он погиб под колесами грузовика.
Как и в предыдущих случаях, первым моим желанием было поскорее избавиться от записки, но на сей раз я как следует подумал и поступил иначе. Какой-то негодяй целенаправленно изводит нас. Пока он ограничивается тем, что сует свои послания в наш почтовый ящик…
А ведь никогда не знаешь заранее, к чему приведут подобные фортели; все начинается с пустяков, а потом они могут создать для своих жертв нешуточные проблемы. В нашей школе существует правило: преподаватели должны постоянно быть начеку и всерьез относиться к любому намеку на травлю против кого-то из учеников, даже если на первый взгляд это выглядит всего лишь легким нарушением дисциплины. Я решил следовать тому же правилу и в своей личной жизни. Возможно, и нынешнее – третье – послание, и те, что за ним последуют (а они действительно последовали), когда-нибудь послужат уликой в суде, если дело дойдет до преступления. Вот почему записку я сохранил. И предъявил Амалии, которая недолго думая указала мне пальцем на мусорное ведро:
– Хулиганья везде полно.
4.Нашему малышу исполнилось два года, но он так и не научился произносить хотя бы одну связную фразу. Отдельные слова, конечно, говорил, но так их коверкал, что мы не понимали, чего он хочет. Наступит ли когда-нибудь день, когда он возьмет на себя труд спрягать глаголы? Мы с Амалией начали всерьез беспокоиться. И договорились, что будем показывать нашему сыну, что мы его не понимаем, – может, это заставит его больше стараться. Детский врач повода для тревоги не нашла. У каждого ребенка, объяснила она, свой особый ритм взросления. Но у нашего, как мы видели, не было вообще никакого ритма. С каждым разом мы выходили из ее кабинета все менее обнадеженными, но разве поспоришь с дамой в белом халате?
Как-то раз в доме у мамы мы встретились с Раулем и Марией Эленой, и они, словно нарочно, принялись с гордостью рассказывать, что их старшая дочь в возрасте Никиты (младшей только что исполнился год) уже знала наизусть молитву «Маленький Иисус», болтала без умолку и выучила несколько песен. Я спросил, не выступала ли она с докладами. На этом разговор иссяк.
По дороге домой Амалия упрекнула меня за то, что я всегда слишком грубо разговариваю с братом, правда, это не помешало ей признать, что Рауль и его жена вели себя бестактно. Тем временем Никита, сидя на заднем сиденье, что-то мычал, а я, если честно, уже начинал ненавидеть эти звуки.
Иногда, когда Амалии не было дома, я в отчаянии садился перед ребенком и говорил:
– Ну-ка, Гегель, давай повторяй: оригами. – Или выискивал еще какое-нибудь слово с трудным произношением.
Мальчик внимательно смотрел на меня, но во взгляде его читалась простодушная скука. Я же делал вид, будто он выдержал проверку, и хвалил малыша:
– Отлично. – Потом двигался дальше: – Теперь усложним задание. Повторяй: «Жизнь – это бесконечное совершенствование».
Но хочу непременно пояснить, что, исключая такие вот моменты, когда у меня попросту лопалось терпение, я очень нежно относился к этому дурачку. И очень трепетно воспринимал свое отцовство, особенно в первые годы. Старался держаться с сыном на равных, садился рядом и рассказывал ему всякие истории, пытаясь рассмешить. Мы вместе играли, устроившись на ковре, и хотя сам я отнюдь не отличаюсь разговорчивостью, без конца болтал с Никитой, следуя совету, если не сказать приказу, Амалии. Я никогда не подражал детской речи, как другие родители. Амалия мне это запрещала. Она терпеть не могла, когда взрослые «придуривались» и сюсюкали с ребенком. Я задавал Никите всякие вопросы, называл разные предметы, пел песни, читал детские стишки и произносил самым спокойным тоном скороговорки, твердо надеясь, что ребенок окунется в мир слов. Но все было напрасно.
Я начал склоняться к мысли, что наш сын родился умственно отсталым, и, как мне казалось, вряд ли Амалия думала иначе, хотя в любом случае каждый из нас предпочитал хранить свои подозрения при себе.
Мы часто оставляли Никиту на несколько часов у родителей Амалии или у моей мамы, чтобы он общался с другими людьми и привыкал к другим голосам, другой манере речи и языку жестов. Однажды на кухне моя теща благословила его, словно была самим папой римским. Не было случая, чтобы, навестив нас, она не дала ему поиграть свои четки, старинные четки, на которых сохранились следы рук нескольких поколений святош. Никите очень нравились перламутровые бусины – возможно, потому что он принимал их за леденцы. Поэтому часто тянул их в рот, сильно пугая Амалию, которая боялась, как бы нить не порвалась и мальчик не подавился. Теща настойчиво интересовалась, когда же мы будем крестить ее внука. Она была убеждена, что отставание Никиты – это Божье наказание.
Случилось так, что она сломала тазобедренный сустав и попала в больницу. Навестив мать, Амалия поспешила сообщить, что мы окрестили ребенка. Она сама решила пойти на обман, а я без колебаний ее поддержал. Амалия придумала подходящее объяснение: мы не могли и дальше откладывать крещение, поскольку в церкви нам уже была назначена дата, и, если бы мы отказались от нее, пришлось бы снова и неизвестно сколько ждать своей очереди. Теща со слезами на глазах возблагодарила Господа за то, что отныне ее внук приобщен к Христовой Церкви.
Когда она выписалась из больницы, они с мужем пригласили нас в ресторан «Эвиа», чтобы достойным образом отметить это событие. Теща ходила с палочкой, тесть щеголял седыми усами, как и положено верному стороннику франкизма. С тех пор они перестали донимать нас упреками по этому поводу.
5.Последнюю часть пути до детского сада мы шли по маленькой улочке, закрытой для транспорта, и взяли за правило бросать монетку, чтобы решить, спускаться нам вниз по лестнице или по пандусу для велосипедистов и инвалидов-колясочников. Никите уже исполнилось три года, и бросание монетки приводило его в дикий восторг. Правда, иногда он швырял ее со всего маху, так что потом приходилось долго монетку искать. Сын неизменно выбирал решку – может, это слово ему было легче произнести, а может, из-за слабой способности к концентрации он ухватывал только конец моей фразы: «Орел или решка?» Затем, независимо от того, какая сторона выпала, решительно направлялся к пандусу, не обращая внимания на мои протесты, и я всякий раз задумывался, то ли маленький негодяй не любит проигрывать, то ли не понимает смысла игры.
Как-то раз я еще только собирался вытащить монетку из кармана, а сын уже побежал по пандусу. Никита явно не отличался большим умом, но для своего возраста был довольно подвижным и крепким. Ну хоть что-то! Вдруг он резко затормозил и попятился назад. Я отставал от него на несколько шагов и тотчас заметил двух женщин, которые, судя по воинственным позам и злобным минам, поджидали нас не с самыми добрыми намерениями. Они перегородили собой двери детского сада. И обойти их было невозможно. Никита спрятался за мою спину. Плохой знак. Я обернулся и тихо спросил:
– Что ты натворил?
Одна из женщин подняла рукав платья у девочки, стоявшей рядом с ней, и показала следы зубов моего сына на ее худенькой и бледной ручке. Потом язвительно спросила:
– Вы что, не кормите своего ребенка?
Более заметными, потому что более глубокими и, возможно, совсем недавними, были два ряда красных точек на ноге у пухлого мальчишки, которого другая женщина крепко держала за руку. Именно она обвинила меня в том, что я плохо воспитываю сына, поэтому он стал «бедой их детского сада», и она же пригрозила, что в следующий раз разговаривать со мной будет ее муж. Я хотел дать ей совет: надо, мол, научить мальчика защищаться, но на самом деле не знал, как с достоинством выйти из этой ситуации. Тем временем к детскому саду стали подходить и другие родители со своими детьми, а так как мы перегораживали дверь, им тоже пришлось задержаться рядом с нами. И кое-кто тут же вмешался в разговор, подтверждая, что Николас безо всякой причины обижает их детей. С высоты своего роста я посмотрел на сына и спросил:
– Это правда?
Когда я описал случившееся Амалии, она заплакала:
– Они хотят убедить нас, что наш ребенок – чудовище. – Потом, чуть придя в себя, добавила:
– А что мы будем с ним делать, когда ему исполнится лет пятнадцать?
Чтобы успокоить ее, но не слишком веря собственным словам, я сказал, что к тому времени он переменится, если мы постараемся правильно его воспитывать. И тут надо поднажать на общую культуру – это тоже должно сыграть свою роль.
Прошло несколько недель, как-то раз я вернулся из школы полумертвый от усталости, с головой, распухшей от школьного шума и гама. Мне хотелось немного отдохнуть, вздремнуть, чтобы хотя бы во сне отпилить бензопилой головы своим ученикам. Я застал Амалию в страшном расстройстве.
– Что случилось?
Жена только что разговаривала по телефону с директором детского сада, и та передала ей требование группы родителей: немедленно забрать оттуда Никиту. Но по-настоящему я встревожился, когда увидел, как Амалия наливает себе бокал вина, хотя время было совсем для того не подходящим.
С отчаянным видом она заявила, что мы больше не поведем сына в «этот гадюшник». Потом залпом выпила вино, словно пытаясь затушить бушевавший внутри пожар. Я возразил: если мы решим перевести сына в другой садик, нам наверняка придется снова долго стоять в очереди. И надо будет каждый день оставлять Никиту с ее родителями или с моей матерью, что обернется новыми сложностями.
– Дай мне подумать, – сказала Амалия, потом твердым шагом, стуча каблуками, двинулась с новым бокалом вина в свою комнату и заперлась там.
На следующий день мы все втроем явились в детский сад раньше обычного. На сей раз не было никакой монетки, я взял Никиту на руки, и вниз мы спустились по лестнице. Амалия шла следом за нами, она сильно нервничала и поэтому попросила, чтобы разговор с директрисой я взял на себя. Я весьма сдержанно заявил этой даме то, о чем мы с женой договорились еще дома: обязанность детского сада – применять педагогические меры, чтобы исправить плохое поведение нашего сына, а также в случае необходимости защищать от него других детей. Мы не станем забирать Никиту из садика, а если понадобится, без малейших колебаний воспользуемся услугами юристов.
Со слов одной из мамаш, с которой мы поддерживали дружеские отношения, какое-то время спустя нам стало известно, что воспитательницы частенько отделяли Никиту от остальной группы. Видимо, таким образом они старались уберечь детские руки и ноги от его укусов, а также утихомирить самых возмущенных родителей.
Мы с Амалией, откровенно говоря, восприняли эту новость равнодушно.
– Так он скорее научится вести себя как положено, – заявила моя жена.
– По мне, так пусть его хоть к батарее привязывают, – ответил я.
6.По случаю четырехлетия тесть с тещей подарили Никите металлическую коробку с цветными карандашами фирмы «Альпино». И у меня самого, и у Амалии в детстве были карандаши той же марки, правда, помещались они в картонной коробочке, которая быстро рвалась. Мы с женой в один голос одобрили такой подарок. В нашей жизни были, пожалуй, подарки и получше, но сейчас эти карандаши воспринимались как самая отрадная метка в нашей эмоциональной памяти, поэтому нас порадовало, что сын получил такие же, какими когда-то мы с таким упоением рисовали.