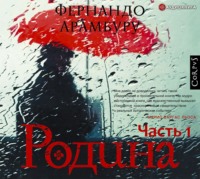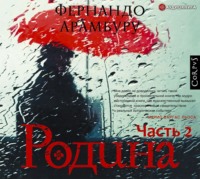Полная версия
Стрижи
Амалия считала мою библиотеку настоящим бедствием. Ей казалось, что книги распространяются по квартире как грибы и в конце концов ими будут покрыты стены, пол и потолок. Своих у нее, за редкими исключениями, почти не было. Прочитав книгу, она с удовольствием дарила ее коллегам, друзьям или гостям радиопрограммы, а иногда и просто оставляла в редакции – пусть заберет кто хочет. Да и читала она не так уж много. Стоило чуть поскоблить верхний слой ее общей культуры, как сразу обнаруживалось невежество, скрытое под изысканным макияжем. Отсутствие познаний во многих областях не мешало ей изображать из себя в качестве ведущей весьма образованную женщину. Но, надо признать, готовилась она к передачам на совесть. Так вот, если вслушаться повнимательнее, легко понять, что при всем своем безусловном обаянии и красивом голосе Амалия всего лишь задает заранее составленные вопросы и произносит заранее написанные тексты, имитируя импровизацию, а еще копается в чужой личной жизни, повторяет модные лозунги и фразы, почерпнутые из газет. Однако слушатели никогда не услышат от нее глубокого анализа темы, требующего знаний и настоящего погружения в материал.
Наступил момент, когда Амалия довела меня своими причитаниями до того, что я согласился хранить большую часть книг в картонных коробках. Правда, эти коробки выглядели гораздо хуже, чем полки, заставленные томами. Моя комната стала напоминать подсобку во фруктовой лавке. Жена потребовала, чтобы гостиная стала территорией, свободной от книг. «Свободной от культуры», – возразил я. По ее мнению, наши гости (весьма, кстати сказать, редкие) не должны чувствовать себя так, словно попали в канцелярию. Слово «канцелярия» она произнесла с подчеркнутым презрением.
К Хромому Амалия относилась еще хуже, чем к моей библиотеке, хотя в его присутствии скрывала желание перегрызть ему глотку. Они терпеть не могли друг друга и, вероятно, именно поэтому прекрасно между собой ладили, поскольку понимали, что оба в своем притворстве придерживаются одной и той же стратегии. Я не раз замечал: когда мы с Амалией заговаривали о нем, она корчила недовольную мину и даже избегала произносить вслух имя моего друга, словно ей было противно осквернять свои уста такой мерзостью. Амалия так и не узнала прозвища, которое годы спустя, уже после теракта, я для него придумал. Этого прозвища вообще никто не знал, он в том числе. Хромой был единственным, кого в наш дружеский круг ввел именно я. В оправдание Амалии должен признать, что он порой бывал слишком прямолинейным и даже грубым. И мог позволить себе в ее присутствии малоприличные – или совсем неприличные – слова, хотя сознавал несовместимость их интересов и характеров, а может, с тайной целью вогнать мою жену в краску. Кроме того, он потешался над наивностью Амалии в политических вопросах и пользовался любым поводом, чтобы довольно бесцеремонно указать на нелепость ее суждений. Она считала Хромого хамом и обижалась, что я не ставлю его на место. Однажды, когда мы втроем ужинали в ресторане, Хромой в лоб спросил:
– А сколько раз в неделю вы трахаетесь? Мне это надо знать для моих статистических исследований. – И расхохотался так, что на нас посмотрели из-за соседних столиков.
В подобных случаях Амалия держалась невозмутимо, словно выходки Хромого задевали ее не больше, чем проказы невоспитанного ребенка. Такое хладнокровие выполняло роль непрошибаемой брони, и Амалия вела себя как ни в чем не бывало, даже если внутри пылала негодованием и могла исподтишка ущипнуть меня или пнуть под столом ногой, чтобы я придумал повод поскорее уйти. В защиту Хромого должен сказать, что он был невероятно щедр, когда речь шла о подарках или услугах. После нашего развода Амалия порвала с ним всякие отношения, как и я с ее друзьями.
Из того, что было связано со мной или важно для меня и что Амалия ненавидела, третьей в списке стояла собака. Моя жена никогда не гуляла с ней одна. Иногда вместе со мной или с Никитой выходила пройтись по нашему району, и то скорее в роли инспекторши, а не ради удовольствия. Если Пепа начинала чесаться, значит, у нее наверняка завелись блохи. Если вокруг собачьей миски валялись остатки корма, значит, в нашем доме скоро появятся муравьи. Если Пепа тявкала, услышав звонок в дверь, значит, соседи будут на нас жаловаться. Амалия то и дело напоминала, чтобы я не забывал убирать собачьи какашки на улице, ведь кто-нибудь мог узнать меня, а потом разместить в сети фотографии и погубить тем самым ее карьеру на радио. Все, что касалось Пепы, становилось поводом для ссор, все сулило одни только неприятности. К сожалению, Пепу нельзя было сунуть в картонную коробку, как книги, и нельзя было не видеть неделями, как Хромого. Пепа жила с нами, она принадлежала нашему сыну, хотя он и не баловал ее своим вниманием. Короче, она была членом нашей семьи. К тому же самым ласковым, самым спокойным и разумным, почему я собаку так и люблю.
12.Я увидел выставленную на утреннее солнце сушилку для белья, и мне было трудно поверить, что такое количество трусов и лифчиков могло принадлежать Амалии. Однако сушилка была наша, та самая, которой мы пользовались с самого начала семейной жизни. Жена давно завела привычку вешать выстиранное у нас на плоской крыше, подальше от любопытных глаз. Вряд ли кто из соседей поднимется туда. Эти кретины и не догадываются, как быстро сохнет белье наверху при хорошей погоде. А мы жили на последнем этаже, и крыша была в полном нашем распоряжении, чем мы охотно пользовались. Кроме того, туда вела очень крутая лестница, по которой никак было не подняться старухе, обитавшей напротив.
Амалия утверждала, что белье, повешенное во внутреннем дворе, впитывает в себя все неприятные запахи, летевшие из кухонных окон, ведь там жарили мясо и варили овощи. К тому же во двор никогда не попадало солнце, туда не залетал ветер, поэтому и сохло все долго. Мало того, казалось, что оно вообще не высыхает до конца. Много часов провисев в тени, ткань оставалась неприятно сыроватой. Кроме того, кто угодно из жильцов мог выглянуть наружу и поглазеть и на предметы нашего туалета, и на простыни, которыми мы укрывались, и на полотенца, которыми мы вытирались. Короче, выставлять напоказ то, до чего никому не должно быть дела, Амалия не любила.
Глядя на ряды трусов и лифчиков, я почувствовал сильную неловкость. Словно они нагло таращились на меня, шепотом подшучивали надо мной и сговаривались наябедничать Амалии, что утром я поднимался на крышу.
– А вы уверены? – спросит их Амалия.
– Да, он воспользовался тем, что ты ушла из дому, и тайком явился сюда. Он настоящий извращенец. – Он и до развода был таким.
– Но теперь это особенно заметно.
И тогда я принялся швырять все это вниз, выбирая по цветам: сначала белое, потом красное, потом черное… Лифчик, трусы, еще один лифчик… А потом бросился с крыши сам. Решительно подпрыгнул на несколько сантиметров и сперва завис над полом, с невероятной остротой почувствовав, как неодолимо он притягивает к себе мое тело. Если бы кто-нибудь увидел меня снизу, с усыпанного бельем тротуара, или из окна ближайшего дома, он бы подумал: «Этот сеньор собрался перебежать по воздуху от одного здания к другому».
Падая с крыши, я в первые мгновения испытал удовольствие. Легкое, холодное, мимолетное, но удовольствие. И тотчас в уши мне ударили истошные птичьи крики, похожие на звонкие бешеные иголки. Тысячи стрижей окружили меня плотным облаком, и я утонул в непроглядном мраке. Потом ощутил на лбу и на щеках резкие прикосновения крыльев, а в одежду и в тело мне впились их клювы. Я успел пролететь вниз не больше двух или трех этажей, когда падение мое начало замедляться, а потом я повис в воздухе. Несметная стая птиц тянула меня вверх. Люди на тротуарах с изумлением задирали головы и показывали на нас пальцами. А маленькие птички, хлопая крыльями и выбиваясь из сил, все-таки подняли меня и опустили обратно на крышу – с фантастической осторожностью. Я был весь с головы до ног измазан птичьим пометом. Белесая масса покрывала мне одежду, руки и волосы. Стрижи порхали вокруг с пронзительным свистом. Не обращая внимания на всю эту суматоху, я опять бросился вниз. Они опять вернули меня на крышу, где уже успели собраться какие-то люди. Соседи? Мои глаза были залеплены мерзкой дрянью, и я никого не мог толком разглядеть.
Кто-то сказал:
– Иди сюда, сейчас ты все узнаешь.
Голос, вне всякого сомнения, принадлежал моему отцу. Пока я, смирившись с тем, что остался в живых, шел к двери, люди, расступившись, образовали коридор. Я шагал по коридору и узнавал их. Папа, мама, брат, невестка, Амалия, ее сестра, Никита, его кузины, тесть с тещей… Но разве папа и тесть не умерли? И почему мама не в пансионате? Не обошлось и без Хромого – tu quoque?[15]А еще я увидел коллег по школе, среди них – Марту Гутьеррес, видимо воскресшую, а поодаль стояла директриса с искаженным злобой лицом. Я шел между ними, низко опустив голову, во-первых, чтобы защититься от их гнева, а во-вторых, чтобы не замечать их взглядов. И каждый старался ударить меня – кто палкой, кто клюкой, кто просто голой рукой, кто хлыстом или железным прутом… Но больше всего изумило меня другое: в конце двух параллельных рядов стоял мой детский учитель математики. Он был вооружен ножом с широким и длинным лезвием, сверкавшим в лучах утреннего солнца. Я подставил ему для удара живот – и проснулся. Мне редко удается вспомнить днем то, что приснилось ночью. Этот свой сон про крышу я объясняю тем, что после ужина принял капсулу мелатонина.
13.С берега водохранилища я смотрел, как они идут в сторону леса. Никита кидал юной и неугомонной Пепе резиновый мячик, за которым она неслась со всех ног. Амалия отставала от них на несколько метров и шла, как всегда, чуть покачиваясь, что мне в ней особенно нравилось. Тело – лучшее, что было и есть у Амалии, хотя непонятно, как долго оно будет таким оставаться. Ее характер никогда не соответствовал телесной оболочке. Вот мое мнение. А если кто со мной не согласен, ваше дело. Еще я думаю, что она рискует превратиться в совершенно несносную персону, когда старость лишит ее физической привлекательности. Ну и хватит об этом, для меня такие мысли – чистый уксус. Сегодня вечером я хочу вспомнить кое-что другое.
Воскресный день катился к вечеру. Я остался сторожить наши вещи, а заодно, сидя на камне, проверял домашние задания своих учеников. Чтобы дать мне спокойно поработать, а еще потому, что мы совсем недавно чуть не разругались, Амалия уговорила Никиту пойти с ней прогуляться. Вернулись они пару часов спустя, когда солнце опустилось уже совсем низко, и с той же стороны, куда уходили. Переполошенный Никита кинулся ко мне, громко выкрикивая что-то бессвязное, но я разобрал его слова, только когда он оказался совсем рядом.
Амалия без особого волнения подтвердила: Пепа убежала от них.
– Думаю, она чего-то сильно испугалась, наверное, ее укусил скорпион.
Амалия сразу же бросилась на поиски, но Пепу не нашла. То, что жена сказала следом, вселило в меня некоторые подозрения:
– Уже поздно, пора ехать домой. Надо смириться с фактом: мы ее потеряли.
На самом деле насторожили меня не столько эти слова, сколько выражение лица Амалии. На нем не было даже намека на тревогу или огорчение.
Видимо, жена, которая никогда не была дурой и, кроме того, умела читать по моей физиономии, что у меня на уме, как и я умел читать по ее физиономии, что на уме у нее, быстро сообразила: она слишком поспешно объявила потерю собаки делом непоправимым. Поэтому не стала возражать против моего предложения снова попробовать поискать Пепу – думаю, почувствовала, что надо действовать хитрее, чтобы рассеять мои подозрения. Я велел Никите идти со мной. Кто, если не он, покажет мне дорогу? Мальчишка согласился без особой охоты. Мы договорились, что Амалия тем временем соберет наши шмотки и погрузит все в машину, и как только мы вернемся, немедленно тронемся в путь. Она довольно настойчиво попросила нас не уходить слишком далеко, напомнив, что скоро начнет темнеть, а завтра – рабочий день. Четверти часа, на ее взгляд, нам вполне хватит. Я кивнул, но только чтобы не терять время на пустые разговоры, хотя вовсе не собирался выполнять это обещание. Иными словами, был готов ночь напролет, если понадобится, бродить по лесу вокруг водохранилища Вальмайор, пока не отыщу Пепу.
Когда мы остались с Никитой вдвоем, я попросил его вести меня точно тем же путем, каким они шли с матерью. Он сразу начал увиливать. Якобы плохо запомнил маршрут.
– Вы шли здесь?
– Да!
Я тотчас указывал ему другое направление, и он опять говорил «да». Мы забрели невесть куда, и тогда я решил поподробнее расспросить его про Пепин приступ паники. Не всегда, конечно, но иногда все-таки выгодно иметь не слишком сообразительного ребенка, поскольку такие плохо умеют врать.
– Мама мне сказала…
– То, что сказала мама, я уже знаю, теперь мне нужно узнать, что ты видел своими глазами.
Так выяснилось, что сам он не присутствовал при бегстве собаки. Мать велела ему спокойно постоять на тропинке. Она исчезла в зарослях, а вскоре вернулась уже без Пепы. Продолжая расспросы, я вытянул из Никиты одну подробность, показавшуюся мне очень полезной. С того места, где он ждал Амалию, были видны дома какой-то деревни.
– Кольменарехо?
Никита пожал плечами. Ну, не важно. Если гулять по этим тропинкам, другой деревни тут не будет, поэтому мы с ним зашагали именно туда, пока еще не совсем стемнело. Каждые две-три минуты я свистел. Потом несколько секунд прислушивался и продолжал путь. Ноющий сын тащился следом.
– Если не хочешь идти со мной, возвращайся к матери.
– Один я потеряюсь.
Пепа, как и положено, была чипирована. Не исключалась возможность, что позднее гражданские гвардейцы нам ее вернут. Но был возможен и другой вариант: какой-нибудь шустрый тип, найдя такую красивую и послушную собаку, не пожелает с ней расставаться. Я снова свистнул. Тишина. Уже прошли четверть часа, о которых мы договорились с Амалией. Никита своим нытьем действовал мне на нервы. Впереди появились огни, и они могли быть только огнями Кольменарехо. Я уже был готов признать свое поражение, когда решил влезть на маленькую каменную ограду у края дорожки. И, теряя последние надежды, снова свистнул, свистнул очень мощно, как когда-то научил меня отец и как я так и не сумел научить свистеть собственного сына. На этот раз ответом мне стал далекий лай, в котором я поначалу не узнал голоса Пепы. Может, мое присутствие насторожило какого-то пса на одной из окрестных ферм. Я снова свистнул, и на сей раз ответный лай прозвучал жалобно. Я свистел, Никита кричал, и таким образом Пепа через несколько минут нашла нас, хотя все эти минуты не подавала признаков жизни. И вскоре я понял почему. Она бежала к нам, держа в пасти резиновый мячик.
По дороге в город Амалия всячески демонстрировала, как она рада, что Пепа нашлась. Она даже не возмущалась тем, что мы с Никитой потратили на поиски больше часа. И, сидя рядом со мной, тянула руку к заднему сиденью, чтобы погладить тяжело дышавшую, как всегда, собаку. Амалия выказывала к ней такую нежность, что на миг мне почудилось, будто в машину к нам случайно села чужая женщина.
После ужина я пошел выгуливать Пепу. И при свете фонаря присел перед ней на корточки:
– Она хотела тебя там оставить? Правда? – Ответ я прочитал в глубине собачьих глаз. – Обещаю тебе, что впредь буду вести себя внимательнее.
14.Старуха предсказала, что я попаду в ад. Вернее, пожелала мне попасть в ад. Она буквально накинулась на меня. Еще хорошо, что не ударила своей сумкой. И твердо пообещала, что всемогущий Господь накажет меня, во-первых, за то, что я испортил жизнь ее девочке, а во-вторых, за то, что нарушил священное таинство брака. Как она утверждала, семью погубил именно я. И справедливая кара за этот смертный грех будет ужасной. Потом она повторила с бешенством во взгляде, что в иной жизни меня ждут муки, которые даже трудно себе вообразить.
Говорила моя бывшая теща сбивчиво, стародедовским языком, но вполне грамотно. Ее словарный запас был весьма богат – многие годы она накапливала его и шлифовала перед амвоном. Думаю, большинству нынешних телеведущих и политиков хотелось бы выражать свои мысли так же складно, как это получалось у проклятой ханжи.
Стало понятно: Амалия сообщила родителям, что мы начали процедуру развода. Я же, напротив, решил не расстраивать маму, ведь было непонятно, долго ли еще она сохранит остатки ясного ума. И до сих пор уверен, что поступил правильно.
Мой тесть во время описанной выше отвратительной сцены держался на заднем плане. Псориазный старик злобно молчал, решив, что я даже взгляда его не заслуживаю, и, видимо, мечтательно воображал, как расстрельный отряд поведет меня к стенке, а потом, изрешеченного пулями, волоком доставит пред очи Господа Бога.
В буйстве и наскоках тещи было что-то такое, что доставляло мне неподдельное удовольствие. Поэтому я решил не мешать ей. Кроме того, было приятно лишний раз убедиться в ее глупости. За свою жизнь я видел куда менее увлекательные фильмы и театральные спектакли. Меня просто завораживала смесь фанатизма и наивности, бушевавшая в ней и действовавшая подобно наркотику. Достаточно было понаблюдать, как расширялись у нее зрачки и как она сжимала челюсти, глядя на своего врага.
Я никогда не бил старух. Но в тот день едва сдержался, чтобы не сломать теще искусственную челюсть и не разбить нос, а уж затем отправиться домой, неся на рубашке пятна ее праведной крови.
Вечером Амалия позвонила мне, чтобы принести свои извинения и поблагодарить за то, что я вел себя с ее матерью так вежливо.
– Ты ведь сам знаешь, какая она, – добавила Амалия, тем самым словно снимая с нее всякую вину.
15.Моего тестя уже успели похоронить, когда я услышал о его смерти. Никита забыл сообщить мне об этом. Почему? А нипочему. И вообще, с какой стати мальчишка должен исполнять роль гонца, приносящего дурные вести? Хотя, возможно, его мать желала омрачить те немногие часы, которые нам с ним позволялось провести вместе. Правда, я знал, что дни страдающего раком старика сочтены. Иногда Никита делился со мной какими-нибудь деталями:
– Дед Исидро классно облысел.
В свойственной Никите неформальной манере он упоминал о неприятном запахе, окружавшем больного, и касался других физиологических подробностей, от которых меня, если честно, выворачивало наизнанку.
Однажды я спросил сына, с какой стати он так обстоятельно рассказывает мне о болезни деда, если прекрасно знает, что после развода я не поддерживаю никаких отношений ни с ним, ни с его супругой.
– Это мама мне велит.
Тестя поместили в больницу, потом подключили ко всяким трубкам, потом он отдал Богу душу, его похоронили, но я ничего об этом не ведал. Смерть его – к чему скрывать? – не слишком меня огорчила, как, впрочем, и Никиту, если судить по его поведению.
– Ты, наверное, переживаешь, – сказал я ему. – Хочешь, в воскресенье пойдем в парк «Ретиро» и покатаемся на лодке?
Никита ответил не задумываясь:
– Ой, пап, не гони фуфел.
Короче, я не знал о смерти тестя, поэтому не явился ни на прощание, ни на кладбище и не выразил его близким своих соболезнований. Какое-то время спустя Амалия позвонила мне и стала выяснять, почему я так поступил. Неужели по злобе? Должен добавить, что Амалия, ставшая инициатором официального развода, надеялась, как и я, что мы сохраним наши семейные связи. Поэтому такой упрек с ее стороны показался мне настолько нелепым, что я решил не выдавать расчудесного безбашенного сынка, который просто-напросто забыл сообщить мне о смерти деда. Я объяснил свое отсутствие на похоронах неотложными делами. Она была этим искренне огорчена, разочарована и даже не удержалась от эмоциональных всплесков – совсем как в былые времена, когда мы с ней то и дело и по любому поводу ссорились. Сейчас Амалия, конечно, понимала, что, коль скоро мы разведены, она не имеет права что-то требовать от меня в личном плане, однако, по ее словам, все-таки лелеяла надежду на остатки хотя бы дружеских чувств или приязни. И даже если ничего подобного не сохранилось (тут она пустила в ход лучший из вариантов своего профессионального голоса), я мог бы как минимум отправить им несколько строк с соболезнованиями – это ведь элементарный жест вежливости со стороны хорошо воспитанного человека.
– Соболезнования я могу принести тебе и сейчас, выразить их никогда не поздно.
– Мне твои соболезнования не нужны, но ты должен был принести их моей матери, которая никогда ничего плохого тебе не сделала.
На это я ответил, что мой альбом с собранием упреков уже давно переполнен и туда не влезет больше ни одного. Амалия обозвала меня циником и добавила с плохо скрываемым презрением, что, пожалуй, тоже не станет задавать вопросы о здоровье моей матери.
– Обойдемся! – отрезал я, но она меня уже не слышала, так как успела повесить трубку.
16.Вчера ночью мне приснилось, будто я снова поднялся на крышу. И теперь я раздумываю: что же с некоторых пор стало твориться у меня в голове? Может, от скуки мой мозг испытывает потребность в нелепых историях? Или это действие мелатонина? На сей раз на сушилке для белья были развешены одни только трусы – каждая пара со своей прищепкой. Очень много трусов разного фасона и разного цвета, и трудно было сказать, кому они принадлежали – только Амалии или также одной из ее любовниц. В сновидениях не бывает справочных бюро. Так что спросить было некого.
Я хорошо запомнил одну подробность: в небе не было стрижей. Кажется, они уже знали, что на сей раз, поднимаясь на крышу, я не собирался бросаться вниз. То есть не собирался покончить с жизнью таким вот быстрым способом. Вместо этого я подошел к сушилке и наугад выбрал красные трусы с кружевами. Судя по всему, дорогие. Я очень осторожно снял их, чтобы ногтями не повредить тонкую ткань. Потом, натягивая на себя, убедился, что они уже высохли. Правда, я надел бы и мокрые, иначе зачем было подниматься на крышу? Трусы были мне немного малы, но не слишком, поскольку Амалия, конечно, ниже меня ростом и худее, но у нее широкие бедра.
Однако прежде я взял освободившуюся прищепку и с ее помощью повесил на сушилку собственные трусы. Стягивая их с себя, я почувствовал на ткани тепло детородных органов. Трусы были старые и самые обычные, из хлопка, чуть потрепанные понизу, то есть далеко не самые лучшие из тех, что у меня имеются. К тому же не совсем чистые. В любом случае контраст с висевшим на сушилке бельем оказался разительным.
Непонятно, каким образом – ведь ключа у меня не было – я попал в квартиру Амалии. И быстро спрятался за штору. Все вокруг осталось таким же, как во времена нашей совместной жизни: та же мебель, та же люстра под потолком, те же картины на стенах. Тут в гостиную вошла Амалия, умоляя свою подругу поверить: она не стирала и не вешала сушиться никакого мужского белья. Подруга по имени Ольга, бесясь от ревности, объявила, что разрывает с ней всякие отношения, а потом назвала изменщицей и грязной шлюхой. Стоит ли добавлять, что все это говорилось на повышенных тонах – к негодованию соседей.
И вдруг я оказываюсь у себя в школе, где веду урок, посвященный Канту и категорическому императиву. От моего внимания не укрываются смешки и перешептывания учеников. Не знаю, каким образом, но эти негодяи догадались, что под брюками у меня женские трусы, мало того, они вот-вот могли узнать, какого те цвета, поскольку нынешние ребятишки со своими мобильниками и безвылазным сидением в социальных сетях в мгновение ока обмениваются информацией – стоит кому-то одному сделать некое открытие, как оно становится всеобщим достоянием.
Я прерываю объяснения и, застыв в центре класса, приказываю ученикам немедленно поменяться нижним бельем.
– Мальчики должны надеть девчачьи трусы, – говорю я непривычным для них строгим голосом, – а девочки – мальчишечьи.
Я даже прикрикиваю на этих оболтусов, чтобы никто не вздумал мне перечить. Я хочу добиться своего любой ценой, поэтому достаю из портфеля пистолет 22-го калибра и недолго думая стреляю в окно, вдребезги разбивая стекло. Напуганные ученики молча начинают раздеваться. Некоторые прикрывают срамные части руками, другие – учебниками или тетрадями. Я вижу маленькие члены и безволосые лобки. Девочки и мальчики меняются нижним бельем, вокруг стоит тишина, изредка нарушаемая всхлипами. Сперва дело идет медленно и как-то лениво, но после моего второго выстрела они начинают шевелиться быстрее.
И тут открывается классная дверь. Входит директриса. Привычным злым голосом она приказывает мне убрать пистолет и тут же хвалит за умение наладить дисциплину. Потом поворачивается к ученикам, большинство из которых еще стоят с голыми ногами, и, чтобы успокоить их, а может, чтобы подбодрить собственным примером, спускает брюки и показывает, что на ней надеты мужнины трусы.
17.Вечером я гуляю с Пепой по улице Картахена – это наш любимый маршрут. Иду медленно, предаваясь воспоминаниям и обдумывая, что может лечь в основу сегодняшней порции моих ежедневных заметок. Я не обращаю внимания на собаку, которая бежит чуть сзади, приноравливаясь к ритму хозяйских шагов. Мне кажется, будто я держу в руке парящий в воздухе поводок. Дойдя до поворота на улицу Мартинеса Искьердо, останавливаюсь перед глухой стеной углового дома – без окон и дверей. Тротуар здесь узкий. На нем, перегораживая дорогу пешеходам, высятся столб с дорожным знаком и светофор с привешенной к нему внизу урной. Цоколь со следами собачьей мочи привлекает внимание Пепы, которая начинает принюхиваться к меткам, оставленным ее сородичами. Замерев на углу, я раздумываю, по какому тротуару идти дальше – налево или направо. Так как у меня нет определенной цели, мне все равно, какой выбрать. Пепа, пометив территорию обильной струей, садится и ждет, куда ее в конце концов поведут. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Не то чтобы меня раздирали сомнения, нет, просто в любом случае мой выбор не имеет абсолютно никакого значения. «Какая разница, куда ты повернешь, – думаю я, – если сам не знаешь, куда направляешься и если никто тебя нигде не ждет?» В итоге вопрос решается легко: мы поворачиваем назад и идем туда, откуда только что пришли.