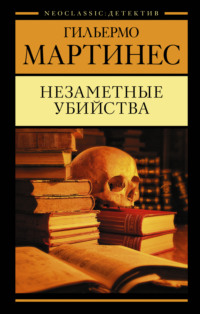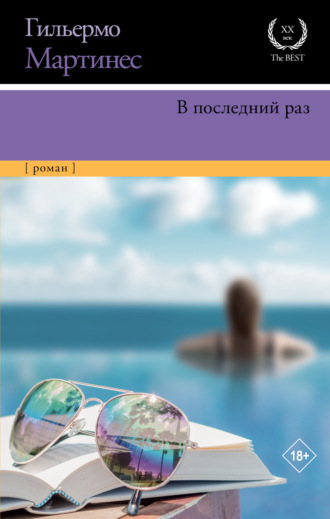
Полная версия
В последний раз

Гильермо Мартинес
В последний раз
© Guillermo Martínez, 2022
© Перевод. А. Миролюбова, 2022
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *Посвящается Брэнде
Один
Эта история относится к далекому прошлому – настолько далекому, что оба главных героя уже успели умереть – однако их царственные тени и сегодня так же, если не сильнее, властвуют над нами, и львиная доля парадоксальности и трагикомичности событий пропала бы, разгласи я сейчас их имена. Стало быть, ограничусь единственной буквой для того, кто при жизни, особенно со времен своего затворничества в Барселоне, являлся самым знаменитым из аргентинских писателей. Эта буква может быть только заглавной А, и ни он сам, вполне осознававший свое место в литературной иерархии и ревностно к нему относившийся, ни верные его читатели, число которых и «неугасающий пыл» увеличиваются с каждой годовщиной, не позволили бы мне избрать какую-либо другую. Но какой тогда буквой обозначить не менее прославленного литературного агента, даму, пригревшую его в Барселоне, – женщину исключительную, блистательно расточительную и дерзкую? Она, эта великаядонна, разворачивала испанскую литературную панораму, и писатели обожали ее сильнее, чем своих любовниц, а издатели называли исподтишка, с не менее сильной яростью, «тираном испаноязычной словесности». Я не могу унизить ее какой-либо иной буквой алфавита, поскольку не хочу, чтобы она восстала из гроба, поэтому дам ей звучное имя Нурия Монклус, которое избрал для нее Хосе Доносо в своем романе «Сад по соседству». И какого бы неба ни удостоилась столь же возлюбленная, сколь и грозная хранительница писателей – а ей ведь нравились романы с ключом, – надеюсь, она одобрит прозрачный покров, под которым я выведу ее на этих страницах.
Остается третий персонаж – гораздо моложе, но тоже в своем роде легендарный, хотя и слегка подзабытый. Я знаю, что он еще жив, поскольку не так давно мне удалось встретиться с ним и взять у него интервью, чтобы дополнить историю; во избежание лишних вопросов я воспользуюсь его первым литературным псевдонимом – Мертон. Тем более, что это имя, эту интригующую подпись под его заметками только и знал литературный мир.
Очень рано, едва достигнув двадцати шести лет, Мертон стал блестящим, выдающимся, единственным в своем роде литературным критиком. Когда были опубликованы его первые рецензии, дрожь изумления объяла редакции всех газет и приложений, посвященных культурной жизни, – явился некто, готовый говоритьправду. Все мы прекрасно знаем: в цивилизованном мире никто не выживет более десяти дней, если решится всем и всегда говорить только чистую нелицеприятную правду. Что уж говорить про наш яростно дарвинианский литературный мир начала девяностых! Однако не следует понимать так, будто Мертон обрушивался на авторов книг подобно наемным критикам, которые водились тогда во множестве. Он также не вставал в позу – частью презрительную, частью малодушную, – характерную для культурного истеблишмента, скупого на похвалы и не способного изумляться. Новичков эти люди встречают злой иронией и насмешками, тогда как к «священным коровам» относятся с неизменно боязливым почтением. Мертона отличало то, что он всегда говорил цельную нерушимую правду, не обращая внимания на авторство, будто отрешенный судья, выносящий окончательный приговор каждой книге, осуждая ее на жизнь или на смерть, чуждый всему, кроме трепетного голоса защиты, звучавшего с ее страниц.
Разумеется, вначале его статьи – резкие, острые, безапелляционные – вызывали у авторов потрясение и даже страх. Все спрашивали друг у друга на банкетах в честь присуждения премий, на проходивших под звон бокалов вечеринках с коктейлями и на собраниях еще более интимных, где в тесном кругу покуривают травку, кто такой этот таинственный Мертон, а главное, кто у него в друзьях. Рассказывались две истории, и обе казались фантастическими. Согласно одной, Мертон был сыном диссидента, преследуемого за политические взгляды, и все отрочество, прошедшее под военной диктатурой, просидел под сводами подпольной библиотеки. Как таинственный доктор Б. из «Партии в шахматы», в этой глухой ночи, длившейся семь лет, Мертон волей-неволей прочитал книги со всех полок, чтобы хоть как-то развлечься посреди этого безусловного и обязательного безмолвия. Именно этим объяснялась его богатая до тошноты эрудиция. Согласно другой истории, которая отчасти противоречила первой, Мертон все так же был сыном диссидента, преследуемого за политические взгляды, но жил изгнанником в одной из европейских столиц, успешно выступал на турнирах по теннису среди юниоров, потом стал инструктором, что позволило ему оплатить учебу в одном из британских университетов. Когти критика Мертон отточил, написав монументальный диплом по латиноамериканской литературе, а также новаторскую работу в соавторстве со светилом математической логики: этот титанический труд был посвящен дихотомиям критического дискурса. Склонность к строгим математическим выкладкам объясняла ясность и картезианскую точность рецензий Мертона, они оставляли впечатление с блеском доказанных теорем.
Любопытно, что, насколько оказалось возможным впоследствии воссоздать его жизнь, обе истории содержали много достоверных фактов, если смягчить преувеличения и заменить их всегда более прозаической правдой. Отец Мертона действительно был политическим заключенным, а мать, библиотекарша, укрылась в небольшом городке на юге страны, в котором была расположена одна из крупнейших в стране библиотек. Чтобы устроиться на работу, матери Мертона пришлось поменять фамилию, свою и сына. Однако ее не отпускала тревога, что их все же найдут, поэтому она раздобыла медицинскую справку, освобождавшую мальчика от школы, и каждый день сажала его в общем читальном зале. И так, все детство и отрочество он получал образование, полка за полкой, в алфавитном порядке, подобно Самоучке Сартра.
Лет в пятнадцать Мертон восстал против этой дополнительной диктатуры, тайной диктатуры книг, и стал работать смотрителем теннисных кортов в одном университетском клубе. С той же полной молчаливой сосредоточенностью, с какой он годами по шесть часов в день читал книги, Мертон начал отбивать мячи от стены старой ракеткой, которую ему подарил один из членов клуба. Кто-то заметил в нем способности. Кто-то другой выхлопотал стипендию, чтобы он мог брать уроки у клубного тренера. Мертон раскрылся, хотя и поздновато, как многообещающий юниор; постепенно поездки на турниры все больше удаляли его от города, где прошло его детство; целый год он даже играл в европейских турнирах. Но в восемнадцать лет, когда настала пора задуматься об университетской карьере, а может, и потому, что мальчишеский бунт угас в жесткой бескомпромиссной борьбе на множестве кортов, Мертон решил, как овечка в загон, вернуться к книгам и провести следующие пять лет под «прилежными лампами» других библиотек.
С этого момента две истории соединяются. Мертон действительно защитил диплом в одном из британских университетов и сотрудничал со знаменитым логиком Адамом Макдугласом, составляя исчерпывающую классификацию дихотомий в литературной критике. Правда и то, что он оплачивал обучение, работая инструктором по теннису, – Теофил Норт[1] с южноамериканским акцентом. Более того, вернувшись в Аргентину, не стал добиваться гранта на исследования в области литературы, а устроился тренером в нескольких клубах Буэнос-Айреса – лишь на первое время, пока не начал публиковать рецензии.
Разумеется, тогда всех этих подробностей никто не знал. И пока писатели, потрясенные предельной искренностью его статей, спрашивали друг у друга его настоящее имя и откуда прилетела эта rara avis[2], редактор культурного обозрения, где Мертон публиковал свою грозную колонку о недавно вышедших книгах, хранил на лице улыбку сфинкса и не размыкал губ. Очень скоро, в целях самозащиты, книги, которые присылали на рецензию ведущие издательские дома, начали сопровождаться карточками с отчаянными мольбами: «Пожалуйста, не давайте читать Мертону!» И все же, после первоначального ужаса, наиболее отважные писатели все чаще решались подвергнуться испытанию. Осознавая все риски, они все же не могли противиться неодолимому искушению прибегнуть к оракулу с неведомым лицом, который возгласит наконец то, чего никто другой никогда не скажет: чистую правду о написанной книге, или, по крайней мере, хоть какую-то правду.
Сейчас, спустя годы, это кажется почти невероятным, но в ту эпоху, экзотическую и немного варварскую, критики, считавшиеся опытными, не отказывали себе в том, чтобы писать рецензии на пьесы для театра, представленные их собственными женами, делая вид, будто автор им совершенно не знаком. Ученые дамы возводили на литературные пьедесталы своих любовников или племянников; редакторы культурных обозрений отправляли последний роман писателя Х на расправу его злейшему врагу – писателю Z, и критика лавировала между обменом услугами в рамках «общества взаимопомощи» и почти кровавыми разборками, достойными сицилийской мафии. Кто-то даже заметил, и не без оснований, что, если в будущем напишут историю аргентинской критики, туда по необходимости войдет генеалогическое древо любовных историй, дружеских связей, взаимной вражды и семейных уз. В этих зыбучих песках между обменом благодеяниями и сведением счетов взыскательное и тонкое искусство оценки литературного произведения превратилось в симулякр, в иллюзию, творившуюся для читателей культурных обозрений, а те и не подозревали, что игра ведется краплеными картами. Вот поэтому, когда пришел человек извне, которого никто не знал и который не знал никого, все вдруг подняли головы.
За отважными первопроходцами последовали другие; колонки Мертона увеличились в объеме, перекочевали на первую страницу культурного обозрения, заняли ее всю, и попытаться предсказать, что напишет Мертон о том или ином новом романе самых прославленных авторов, стало излюбленным развлечением в литературной среде. Вскоре, как в пари Паскаля (нечто, подобное русской рулетке) страх уступил место надежде, почти несбыточной, однако сулившей огромные барыши – благоприятная рецензия Мертона означала абсолютный успех. Теперь издательские новинки прибывали в редакцию с посланиями противоположного содержания: «Пожалуйста, дайте прочитать это Мертону!» Рецензии Мертона повторялись из уст в уста в мирке высокой культуры и даже цитировались за пределами Аргентины. Испанские ежедневники быстро заметили это новое имя, воссиявшее в Новом Свете, даже ослепляющее неукоснительной строгостью умственного труда. Многие пытались заполучить его; как водится, успеха добился самый мощный орган – мадридская газета, которая время от времени обменивалась статьями с аргентинским ежедневником, где публиковался Мертон. Так для него начался год чудес.
Заметки Мертона об испанских авторах – это уже стало его фирменным зна́ком – отличали то же полное беспристрастие, тот же отстраненный анализ, какие уже испытали на себе аргентинские писатели. Поначалу в Испании звучали жалобы и ропот, полные страха и изумления, однако все с возрастающим нетерпением ожидали каждую воскресную заметку, которую перепечатывали основные культурные обозрения Латинской Америки. К концу года свершилась коронация, а от нее рукой подать до катастрофы: испанская газета присудила Мертону премию как лучшему критику в номинации «Открытие года». Он приехал на церемонию награждения, и в следующем воскресном приложении мы увидели первое фото «призрака». Мертон представал неприлично молодым и загорелым, выделяясь на фоне седовласых испанских светочей. На второй странице поместили другую фотографию, и теперь ее можно назвать пророческой: критик поднимает бокал шампанского, стоя между дородной Нурией Монклус, одетой в белое, с одной из ее легендарных изумрудных диадем в волосах, и великолепной супругой А., Морганой, которая слегка касается его плеча. Мертон чуть склоняется к Моргане, будто она готова что-то шепнуть ему на ухо, и он не хочет этих слов упустить. Зато самого А. не было ни на одном из снимков. Он уже жил в Испании, но не выезжал из Барселоны – к тому времени начали проявляться первые симптомы болезни.
Историю о том, как Мертон впал в немилость, наверняка многие помнят – это был скандал года в литературной среде. На той же церемонии была присуждена самая крупная премия газеты – лучшему неизданному роману. Колоссальная ее сумма одновременно и влекла, и отталкивала знаменитых писателей. В тот год она досталась, по наводке, вызывающей подозрения, писателю из Мурсии – широко известному, который мог бы со своих продаж «отбить» все деньги до последнего сентаво и даже оплатить из собственного кармана еще несколько банкетов.
Предполагалось, что приложение к газете опубликует критическую статью о романе, получившем премию. Это было частью ритуала. Статья должна была послужить сигналом к началу продвижения книги. Кто-то решил, что было бы неплохо заказать этот тавтологический труд новоявленному молодому чуду – Мертону. Они были абсолютно уверены, что, пригласив Мертона на свой банкет и удостоив его рукопожатием, они могут рассчитывать на его участие в игре по их правилам. Но сразу по возвращении в Буэнос-Айрес, сняв парадный костюм и оставшись наедине с собой, Мертон на полном серьезе прочитал семьсот страниц книги и поступил так, как всегда: сказал правду. То есть изложил письменно в шести тысячах беспощадных знаков свое мнение и отправил в газету, как делал это каждую неделю. Главный редактор культурного приложения находился в отпуске, а выпускающий редактор небрежно просмотрел лишь первые строчки.
Как следствие, полмиллиона экземпляров приложения с судьбоносной колонкой были отпечатаны и распространились по всей Испании. Главный редактор приложения был, несомненно, одним из первых, кто ее прочитал – и перечитал, – не веря собственным глазам, за завтраком на горнолыжном курорте в Пиренеях. К тому времени было поздно предпринимать попытки что-то исправить, оставалось только взывать о возмездии.
Главный редактор потребовал, чтобы ему достали номер телефона Мертона и соединили его с Аргентиной. Ответив на прозвучавший ранним утром звонок, Мертон постиг неожиданные сногсшибательные варианты площадной брани, бытующей в Испании. На него изливались потоком речения, происходившие из разных регионов, принадлежавшие к разным лексическим пластам, полные немыслимых сексуальных аллегорий, хотя время от времени, словно припев, редактор, переходя на визг, повторял одну и ту же сокрушительную фразу: «Как ты думаешь, паршивый придурок, для чего мы тебе дали премию?» В конце Мертону пригрозили, среди гневного клекота, что впредь он не только не будет сотрудничать ни с одной испанской газетой, но и, насколько хватит влияния редактора, ни в одном из изданий Латинской Америки не получит работы.
За бурей в стакане воды, каковой явилась сама по себе колонка, последовало известие об увольнении Мертона. Соперничающие издания оплакивали его уход крупными крокодиловыми слезами, однако ни одно из них не приютило изгнанника на своих страницах. Имя Мертона вознеслось и воссияло над Испанией, но его доблестная честность оказалась отлита из металла, блеск которого резал глаза, и все предпочли держаться от него подальше.
Когда буря улеглась, к Мертону еще продолжали поступать многочисленные поздравления и восторженные письма читателей, однако никто не предлагал работу. Финальная угроза могущественного испанского редактора не была пустышкой: аргентинская газета, где он изначально публиковался, с сожалением отказалась от его услуг, а другие издания, в двери которых он стучался, похоже, сошлись на том, что им не стоит равняться на эталон образцового Мертона.
Мы не знаем, насколько тяжело он это пережил, ведь никто с ним толком не познакомился; Мертон пронесся по небосводу Аргентины и Испании словно блуждающая недостижимая комета. Кто-то сообщил, что он снова стал давать уроки в теннисных клубах. Поговаривали также, что его утешали по меньшей мере две писательницы. Увидев фотографию Мертона рядом с прославленной красавицей Морганой, обе ощутили неодолимую потребность отыскать его в пресловутых клубах, чтобы потренировать резаный удар. В этом нет ничего удивительного. Достаточно, чтобы красивая женщина пальцем прикоснулась к мужчине – а только это и проделала Моргана на фотографии, – как этот палец превращается в волшебную палочку, и многие другие дамы находят кавалера привлекательным. Еще утверждали через какое-то время, что Мертон самостоятельно изучает аналитическую философию и собирается написать книгу о критическом методе, который применял в своих рецензиях. В общем, имя Мертона постепенно меркло и всплывало лишь иногда, в качестве предупреждения зарвавшимся критикам: «Лучше бы ты сбавил тон, не то закончишь карьеру так же, как Мертон».
Наша история начинается два года спустя, но такое введение показалось нам необходимым, чтобы объяснить, почему на Мертоне были теннисные туфли, покрытые кирпичной крошкой, лицо обгорело на солнце, и грудь пересекал ремешок сумки с ракетками, когда, войдя в подъезд высотки, где располагалась его квартира, консьерж вручил ему письмо из Испании. На письме стояла печать литературного агентства Монклус, а на оборотной стороне конверта – полное, как всегда, горделиво звучавшее имя Нурии Монклус, написанное от руки крупным округлым почерком.
Войдя в маленькую квартирку, которую он снимал неподалеку от площади Италии, Мертон тотчас же распечатал конверт. Оттуда выпал билет на самолет бизнес-класса и короткая, отпечатанная на машинке записка от всемогущей владелицы агентства:
Дорогой Мертон!
Твой соотечественник и мой самый любимый автор, А., несмотря на болезнь, сумел закончить свой, боюсь, уже последний роман. Он попросил меня сделать все возможное и невозможное, чтобы ты его прочитал. Он знает о тебе, ценит тебя и хочет узнать твой вердикт. Из соображений конфиденциальности, принятой среди издателей, я не могу прислать тебе копию рукописи, но прими, пожалуйста, билет с открытой датой, который я тебе отправляю, выбери ближайшую и прилетай в Барселону, где тебя ждет королевский прием. Излишне говорить, что твоя работа будет должным образом оплачена. Оставляю тебе телефон моей личной секретарши, Ампаро, чтобы ты обсудил с ней детали. Надеюсь, второе письмо поможет тебе принять решение.
По мере того как Мертон читал, на губах у него расцветала восхищенная улыбка, окрашенная, тем не менее, скрытым неприятием. Как до изумления естественно эта женщина выдвигала требования, располагала людьми; едва щелкнув пальцами, вытаскивала их из самых отдаленных уголков планеты! Но разве не в этом заключается негласная власть королей и королев? Их сердечность не допускает возражений, деньги улаживают все трудности, приглашения не встречают отказа. Когда королева зовет тебя, нужно идти, как однажды сказала ему мать. Но теперь, когда королева позвала его, в нем взыграла плебейская гордость. Ну ладно, где там второе письмо? Мертон сунул руку в конверт: действительно, там застрял сложенный вчетверо листок очень тонкой бумаги. Как только он развернул его, в глаза ему бросилась подпись: «Моргана».
Два
В отличие от записки Нурии Монклус, продиктованной, видимо, быстро и решительно и отпечатанной секретаршей, письмо Морганы, написанное от руки, буквально обволакивало двусмысленной близостью. Тоже короткое, оно казалось обдуманным и переписанным неоднократно. Почерк был гладкий и округлый; в каждой фразе, как позднее решил Мертон, имелся скрытый смысл.
Любезный Мертон!
Я – Моргана, супруга А., и мне хочется думать, что ты помнишь, как мы встречались на банкете в Мадриде пару лет назад. Но тебя в тот вечер знакомили со многими людьми, ты всех приветствовал, так что мы едва смогли обменяться парой слов. Я запомнила твое имя и, когда вернулась в Барселону, рассказала А. о твоей премии и нашей встрече достаточно, чтобы заставить его немного ревновать, только в таком состоянии он может заинтересоваться тем, что пишут его соотечественники. Я показала ему несколько твоих рецензий и знаю, что он изумился и восхитился не меньше моего, хотя ни за что на свете в этом не признается. Наибольший интерес у него вызвали твои познания в логике. В молодости он тоже изучал математику. Когда мы услышали, что тебя уволили из газеты, А. даже хотел написать письмо и выразить свой протест, но его здоровье ухудшилось, он слишком слаб, чтобы против чего-либо возражать.
Сейчас, в один из периодов ремиссии, А. закончил роман, над которым работал долго – почти семь лет! – и который назвал чуть мрачновато – «В последний раз». Ни врачи, ни я сама не испытываем такого пессимизма, однако он считает, что это его предсмертное произведение, и боится, что не доживет до его выхода в свет. Поэтому, по его словам, он хочет быть уверен, что у книги будет хотя бы один читатель. Он настаивает, считая это чуть ли не своей последней волей, чтобы мы сделали все возможное, чтобы ты его прочитал. Есть еще одна причина тому, что А. вспомнил о тебе. Он сам объяснит ее лучше, если ты согласишься приехать. Речь идет о том, что А. называет «недопониманием» всего его творчества: если его не смогли понять в прошлом, пусть хотя бы кто-нибудь поймет в будущем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Герой романа Торнтона Уайлдера, который тоже работал инструктором по теннису.
2
Редкая птица (лат.). – Здесь и далее примеч. пер.