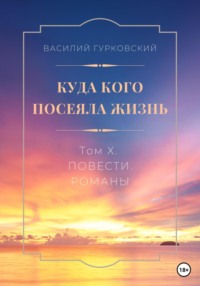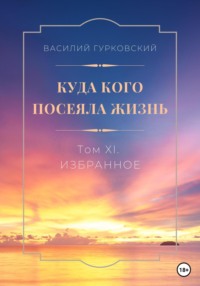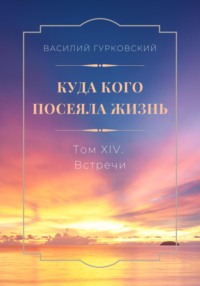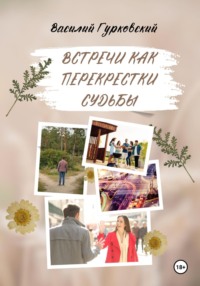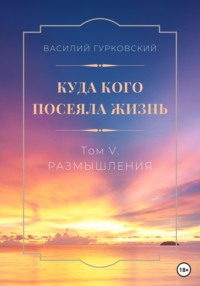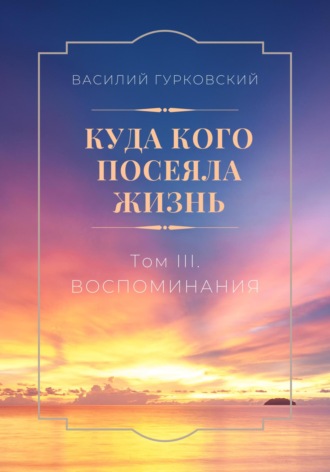
Полная версия
Куда кого посеяла жизнь. Том III. Воспоминания
На другой день, в понедельник, я пошел с утра в гараж, не могу же я гулять по селу в такое время, когда все в поле. Попросил машину из тех, что стояли в гараже, дали самосвал и послали во вторую бригаду! Работать на току – зерно с буртов – возить на очистку. Скучно, но везде свои люди, с ними – уже интересно. Пару дней повозил я зерно, потом подошел к Синице, давай говорю, я займусь тем, Сашкиным комбайном. Синица начал меня отговаривать, потом куда-то уехал (наверняка встречался с Каструбиным), а когда приехал –подошел ко мне и сказал: «Ну, дывысь сам, Андреич, раз тоби так хочется, сидай и косы». Вечером – я уже был на комбайне в гараже, главный инженер, Клинк В.А., по-свойски «наградил» меня огромной десятиметровой жаткой ЖВН-10 и, через день, я выехал в поле. Каструбин несколько раз подъезжал ко мне, один раз даже с Алма-атинским телевидением, но ни разу не посетовал, зачем, мол, ты связался с тем комбайном и т.д., так как прекрасно понимал, что это было бы лишнее, а я все равно сделал бы так, как сделал.
Из главных памятных событий Семидесятых, для меня лично, стоит выделить еще несколько:-я получил диплом об окончании Кишиневского сельхоз института, окончание немного затянулось по причине моего перевода из Москвы в Кишинев;
Так сложилось, что мне приходилось быть последней инстанцией при завершении разных крупных договорных сделок с другими организациями. Из крупных- кроме моей командировки в Сибирь по вопросам лесозаготовок , хотя это была командировка из области и я ее к расчетным не причисляю, – в 1975 году мне пришлось выезжать на Кубань и решать вопросы изготовления монумента на мемориал Славы в нашем селе, и в том же 1975 году- выезжать для завершения расчетов по заготовке соломы в Усть-Каменогорск, за 3000 км от дома и добираться домой своим ходом (смотри материал «Так было надо» в этом же разделе).
Меня, единственного главного финансиста района, в МССР , в 1980 году, последнем году того Десятилетия, –таки наградили медалью «За трудовую доблесть», редкий случай для представителей учета в АПК;
В том же году у нас появилась на свет, первая наша замечательная внучка, Виктория, добавившая нам с женой и радости, и новых забот, и внимания.
Приезжал в этом десятилетии к нам в гости и Каструбин Г.И. Был в санатории на Кавказе и на обратном пути, заскочил к нам. Посмотрел, познакомился с местом, был даже у нашего первого секретаря райкома партии, просто беседовал с ним. Он имел намерение, после выхода на пенсию, переселиться к нам, в Слободзею.
Потом была серия приездов в гости различных родственников, по линии жены. Они больше приезжали на «смотрины», а уже в следующем десятилетии, многие из них начали переезжать в Слободзею и в большом количестве.
Из “полезных» воспоминаний этого периода жизни: – я продолжал дружить со спортом, понятно, что любительским. Вырывал хоть левой, хоть правой рукой –стокилограммовую штангу. Часто играл в волейбол. Когда мы построили в Ащелисае приличный спортзал, к нам не раз приезжали команды из райцентра Батамшинска и из других сел. Мы им не всегда уступали по игре.
Уже работая главным бухгалтером колхоза, нечасто, но играл в футбол за колхозную команду. Когда нашим молодым футболистам, нужна была моя помощь, они приходили ко мне и просили сыграть в каком-нибудь отвественном матче….Кстати, свой последний гол за колхозную команду, я забил именно 17 августа 1973 года, в день, когда мне исполнилось -33 года.
Думаю, уважаемый Читатель, ты понял, а возможно и почувствовал, что мне и моей семье, скучать было некогда в Семидесятых, так же, как и в предыдущих Десятилетиях….Такая судьба. Зато есть, что вспомнить….
Просмотрев приложенные к этому разделу иллюстрационные материалы, а их здесь набралось более 30-ти, ты сможешь убедиться в этом, сам. Жизнь продолжалась, впереди нас ждал не менее интересный период–Года Восьмидесятые и я постараюсь познакомить тебя и с ним, повторяю –только с теми главными событиями и действиями, где или сам участвовал или кто-то принимал участие из близких мне людей.
БУХГАЛТЕР
Начало февраля. На улице темно и сыро. Я сижу в плановом отделе Слободзейского районного Совета колхозов, занимаюсь группировкой планов по АПК(агропромышленному комплексу) района на очередной год. Скоро полночь. В раскрытую дверь слышны голоса из кабинета главного финансиста, он через коридор. Там районный финансист Пасечник принимает годовой отчет у главного бухгалтера моего родного колхоза, Селиверстова. Они только пришли из шашлычной, на перекур ходили, и сидят, разговаривают. Краем уха слышу, Пасечник спрашивает у Селиверстова: «Василий Степанович, как ты думаешь, среди бухгалтеров есть Герои соц-труда?» На что бухгалтер колхоза равнодушно отвечает: «Про героев не слыхал, а про то, что сидят многие – знаю». Это, так сказать, вступительная классика.
«Социализм – это учет», – говорил наш классик. Ну так это же он говорил, хотя и обоснованно, но теоретически. На самом деле к учету в советские годы, я имею в виду сельхозучет, было в высшей степени пренебрежительное отношение, да и к людям, занимающимся учетом – тоже. Кто постарше, помнит, что это было за отношение. В книгах и кино бухгалтеров показывали или как дебилов, или как калек ущербных, или как воров и проходимцев. А все потому, что учет по факту выходил не всегда положительным, это никого, ни руководителей хозяйств, ни все уровни власти, не радовало, и вся неприязнь ситуации падала на бухгалтеров.
Вот планы и плановые обещания были в почете. Чаще всего поощрения, повышения по службе и авторитет строились на планах-ожиданиях. Бухгалтеры, показывающие горькую правду, были в опале, поэтому и Героев среди них не было, а сидели многие и часто не по своей вине, когда показывали искаженные данные. А если не показывали то, что надо было руководству , их опять же -сажали, повод-то всегда найти можно.
Отношение всех к продукту учета, то есть к бухгалтерским данным в общем плане, было отвратительным и естественно сказывалось на отношении бухгалтеров всех уровней к своим обязанностям. Не все они были так ущербны, как их показывали. Многие научились понимать, что от них хотят или ждут, и на этом играли. В сельхозпро-изводстве внимание привлекал только количественный учет- сколько посеяли, собрали, продали в счет госзакупок, какая урожайность, какие надои на корову и т.п. Эти показатели были постоянно на виду и на слуху. Именно за эти показатели боролись все, по всей вертикали АПК и власти вообще, за них давали премии, награды и повышения по службе. А во что это обходилось, никто не считал, даже если кто-то и считал, то никто не хотел этого знать, иначе бы вся система рухнула.
Когда-то, при правлении Н.СХрущева, в газете «Правда» появилась карикатура или шарж, производства, скорее всего группы Кукрыниксов, они тогда поднаторели в этом деле. Так вот, была нарисована корова, веселая такая, у ее головы, в оболочке фраза, наверное, коровой выданная: «Держись, корова, из штата Айова». А ниже – четверостишие «Маня смотрит бодро и горда безмерно, ей нужны не ведра, а нужна цистерна!» Тогда в ходу был лозунг «Догоним и перегоним Америку!», в частности, по молоку.
Но именно в то время тот же Н.С. Хрущев сказал истинно замечательную фразу: «Мы чем больше производим молока и мяса, тем дороже у нас их себестоимость!» Это была истина, как говорится, в первой инстанции. Зачем было производить любой ценой? Зачем раздавать ордена руководителям сельхозпредприятий, например, за заготовку полуторагодичного, а то и двухгодичного запаса кормов? Ну заготовили, понесли затраты, а летом силос, сенаж, кормовые корнеплоды в основном сгниют или потеряют качество, а мы снова прем на очередную полуторагодовую заготовку, а корма списываем. А куда? На тех же непричастных животных, да на их продукцию. Ну и что! Доплаты и премии за продукцию получили, ордена – тоже, а то, что денег на счете нет, так у нас же гарантированная оплата в размере 100 % тарифной ставки, государство даст кредит, потом спишет и т.д. Экономику АПК и сгубила эта система. Поэтому и бухгалтеры подстраивались под нее. Как сказал мне когда-то один председатель колхоза в Казахстане, Григорий Пашкевич, бывший в молодости бухгалтером колхоза: «Э, Васыль, ничого нэ бийся. Робы шо хочэш, тильки нэ бэры соби!» Это тоже советская учетная классика в АПК. Действительно можно было делать в учете (первичном) все, что угодно, только явно не воровать. Этот принцип и вытек из всеобщего подхода к сельскому хозяйству, когда никого не интересовали экономические показатели. Крайне неэффективная экономика села базировалась на крайне неэффективной организации труда в этой отрасли.
Естественно ,если бы во главу всего ставились показатели экономической эффективности, то это бумерангом заставило бы искать причины, а они привели бы к очень нежелательным фотографиям и характеристикам, в первую очередь – всех ветвей власти.
Мне довелось многие годы проработать в колхозном производстве. Вроде бы коллективное хозяйство, со своей собственностью, кто туда вообще имеет право вмешиваться? А ведь доходило до абсурда-приходила команда не только сколько, чего и когда сеять или уби-рать, а даже отдыхать и справлять естественные, простите, надобности.
Кто бы откуда ни приехал или где-то выгнали кого-то, направляют в колхоз. Приходят десять, сто, тысячи людей. И попробуй в колхоз не прими того проходимца на работу. Да ты что, у нас же безработицы нет, политику не понимаешь? Ну что, и берут, и берут всех, ставят ему рабочий день, а потом трудодни или деньги начисляют, а он ничего не делает. И заикнись только, что тебе люди в колхоз не нужны! Да на тебя упадет вся вертикаль власти и просто расплющит. Куда там, социальная справедливость! Какая там к дьяволу справедливость. Как в частушке : «Хорошо в колхозе жить – один робыть, семь – лежит». Зато все довольны, все молчат, и нет никаких волнений, до самого верха, каждый же за свое место боится – будут из твоего региона сигналы – значит тебя «отсигналят».
Безучетная расслабленность сельской экономики породила безбоязненность, бесшабашность, вседозволенность, безнаказанность, вырождение настоящего материального интереса и ответственности. Особенно, когда пришла перестройка, когда многие поняли, что пришла пора просто грабить и воровать. Чем все закончилось – мы видим ежедневно. Полностью уничтоженный отечественный АПК, а на прилавках импортное дегенератное «мыльное» белковое и дорогое мясо и все остальное тоже такого же качества и соответствующей стоимости.
И все-таки мы говорим о том, что было в нашей прежней жизни. Какая бы она ни была, но такая она и была. Не инопланетяне, а мы, ныне живущие, так жили.
За свою трудовую жизнь довелось работать с многими сотнями работников учета, на всех уровнях. Вначале вместе работали, потом надо было руководить их деятельностью, учить, направлять и даже наказывать.
Много прошло бухгалтеров перед глазами. И грамотных, ответственных, толковых и переживающих за порученное дело, что-то предлагающих, ищущих и явно инертных, отбывающих время. Если классический главный бухгалтер пятидесятых – солидный мужчина, всегда слегка «подшофе», с коробкой папирос «Казбек» на столе, вызывающе-уверенным выражением лица и вообще независимым внешним видом, который сам не ведет ни один бухгалтерский счет, только подписывает документы, ездит в Госбанк, в район и представляет свою организацию, то уже бухгалтер шестидесятых-восьмидесятых – гораздо более приземлен и «прибитый». Он уже не личность, он поддакивающий исполнитель. Он делает то, что ему говорят, надеясь, что те, кто ему приказывают – в случае чего его «отмажут». И, наконец, самая черная и беспросветная жизнь главных бухгалтеров сельхозорганизаций пошла с конца восьмидесятых и весь период девяностых. Из бухгалтера сделали пешку-автомат, он ведет две-три бухгалтерии в смысле учета – для себя, для налоговой службы и для пайщиков-инвесторов. Конечно, когда вокруг все и вся покупается и продается, бухгалтеру тоже что-то перепадает.
На фоне печальнейшего итога сельской жизни, когда все движимое имущество, поголовье и запасы были растащены, можно сделать вывод, что сельские экономические и учетные службы полностью деградировали и стали сообщниками грабителей-руководителей. Да, контроль государственный был полностью искусственно уничтожен, но ведь нормальный бухгалтерский учет – это уже 75 % контроля. Мы же уничтожили учет и контроль полностью, и за это учетному сословию на селе нет и никогда не будет прощения. Все жили одним днем, теперь обязательно аукнется детям и внукам.
Нагнав такую грусть, давайте остановимся на одном конкретном примере из жизни бухгалтеров. Здесь можно удивляться, смеяться или грустить, но вот так оно было, такие были люди, и они жили вместе с нами и вместе с нами работали.
Есть такое село Копанка. Уже по самому названию понятно, что основано оно русскоязычными людьми, скорее всего, украинцами. Расположено оно напротив моего родного села Слободзея. Копанка находится на правом берегу Днестра, но не прямо на берегу, как Слободзея, а в нескольких киломе
трах от основного русла реки, на берегу старицы Днестра, так; называемом Старом Днестре. Село построилось на взгорье, потому что раньше, когда еще не было обваловочных дамб, река Днестр, несколько раз в году разливалась и заливала всю пойму, от нового русла до старого, дальше шло невысокое нагорье, тянущееся вдоль правого берега Днестра почти до самого его устья.
Села Копанка и Кременчуг в прежние века были что-то наподобие заимок для слободзейцев. Когда в Бессарабии или нынешней Молдове хозяйничали румыны (1918-1940гг.), Копанка пришла в полное запустение и стала объектом специального социального исследования Румынской королевской академии наук. Итог этого исследования на девятистах страницах закончен к 1940 году и был неутешителен. Румыны-академики вынесли вердикт, что Копанка, как населенный пункт, очень скоро просто вымрет и исчезнет с лица Земли.
После освобождения Молдавии, когда в Кишинев в 1940 году пришли наши, так называемые сегодня- «оккупанты», тот «талмуд» был обнарркен. В пику ученым-румынам, Копанке было оказано соответствующее политическое и сопутствующее экономическое внимание. Село начало быстро возрождаться, потом был перерыв на три года войны, затем опять интенсивная поддержка государства. И колхоз им. Ленина, и село выросли в образцово-показательное хозяйство. Прекрасные сады и виноградники, овощные плантации в пойме со стопроцентным ороше-нием и производством овощей до 20000 тонн в год, единственный на юго-западе СССР 9- гектарный современный тепличный комбинат, асфальтированные улицы, водопровод, прекрасные социальные объекты, современное изысканное огромное двухэтажное здание конторы. Короче говоря, если бы те румынские академики были живы или встали из могил, они бы или снова умерли или пришли проситься на работу в колхоз. Работать в Копанке, тем более жить, было более чем престижно.
С 1946 по 1982 год колхоз возглавлял Герой соцтруда Болфа Г.Т. Это был амбициозный, но толковый, расчетливый и дальновидный руководитель. Настоящий хозяин колхоза и села.
Естественно, он с самого начала уловил ту, направляющую и питающую политическую нить, то внимание, не только экономическое, но и социально-политическое, которое оказывала Копанке центральная власть, и умело этим пользовался. Он открывал, образно говоря, ногами любые двери властных органов, конечно и сам не скупился
и пользовался большим авторитетом. Председатель Всесоюзного объединения «Сельхозтехники» был его хорошим другом, и Болфа Г.Т. (колхоз, естественно) часто получал дефицитные материалы (удобрения, ядохимикаты и т.п.), напрямую, минуя все фонды, разнарядки и т.д. В общем, многие годы это село и его образующее хозяйство колхоз им Ленина, процветали.
Парадокс жизни заключался в том, что именно в этом хозяйстве, и именно в эти годы расцвета ,главным бухгалтером колхоза работал абсолютно никудышный с точки зрения учета человек, назовем его условно бухгалтер. Он был из тех, о ком было сказано немного раньше. Он был «подписант», то есть только подписывал бумаги и делал то, что ему говорил председатель. Никакой самостоятельности, никакого совершенствования, да и собственно никакого сводного учета. Учет шел на первичном, количественном уровне. Почему – тоже было сказано ранее, так было всем надо. И надо сказать, что первичный учет на местах и в бухгалтерии по направлениям был, а сводного не было вообще.
Я в районе принимал годовые отчеты колхозов и межхозяйствен-ных объединений. А это была довольно серьезная работа, предпола-гающая взаимоувязку (настоящую) всей экономики колхоза за год. Это сегодня годовой отчет – никому не интересная туфта, лишь бы показать нужную прибыль, а раньше это было гораздо сложнее.
Так вот, копанский бухгалтер (одного из крупнейших и лучших хозяйств района) ожидал, пока сдадут годовые отчеты все хозяйства, потом собирал все проводки за год в несколько мешков и ехал в район на сдачу годового отчета с чистым бланком.
Днем было некогда, и мы сидели с ним долгими зимними вечерами у меня в кабинете. Я группировал его первичные данные и постепенно выстраивал каркас годового отчета, а он сидел в углу и безучастно смотрел на этот процесс. Да, перед этим он шел в магазин, покупал там бутылку паршивого вина «Пино» 0,7 л за 80 копеек и пачку печенья. Это была его вечерняя норма. Предлагал вино мне, я бы его (простите) разорвал на части, а вместо этого оперативно делал ему отчет, так как из-за него срывалась вся районная отчетная компания. Я бы ему два ящика коньяка поставил, лишь бы его не видеть, а он мне «пино» с печеньем предлагает…
Конечно, можно было от него избавиться в любое время, но ему было пару лет до пенсии, но не это, честно говоря, было главное. Он устраивал председателя, а заводить мне проблемы с Болфой – себе дороже. Так и терпели, пока не ушел на пенсию председатель, за ним «ушли» и главного бухгалтера.
Если бы это было все, я бы никогда о нем и не вспомнил. Но тот бухгалтер был суперуникальным еще и человеком. Жил он в селе Парканы, между городами Тирасполь и Бендеры. Большое красивое и богатое болгарское село. Он там жил, дом хороший, жена, дочка и зять, вот все его семейство. А долгие годы шесть дней из семи в неделе, он жил в Копанке. Там колхоз ему снял квартиру вместе с хозяйкой, подходящей ему по возрасту. Она ему варила, стирала, кормила, т.е. делала ему нормальную жизнь, за что колхоз ей, естествен-но, оплачивал.
У бухгалтера было особое «фетишное» отношение к деньгам. Оклад у него был 250 рублей в месяц, подоходного налога в колхозе не брали, т.е. он получал оклад полностью, чистыми. Но он не любил деньги-«половинки», а только самые крупные с «нулями». То есть, он не получал ежемесячно 250 рублей, а получал за два месяца сразу 500 рублей, по сотням, затем занимал у кассира рубль на дорогу и вез те пять сотен к себе в Парканы, ложил на сберкнижку. Их там было, по словам знающих людей, не одна сотня тысяч.
Жену его шестидневное в неделю отсутствие не смущало, во-первых, он в Копанке жил, ел и пил бесплатно, т.е. с дому ничего не выносил, пользуясь своими возможностями, постоянно брал, т.е. выписывал в колхозе лучшую продукцию, а жена его постоянно торговала в Одессе или в других регионах. Ей не он был нужен, а его возможности и деньги.
По слухам, все его сбережения сгорели, когда в СССР правили Гайдар и его команда. Не знаю, может быть, и так. Имел бухгалтер и новую «Волгу» ГАЗ-21, она стояла на колодках, и никому на ней ездить не разрешалось.
И наконец, самое уникальное. По утвержденному им самим и свято исполняемому регламенту -после десяти часов вечера, калитку в его двор уже никому не открывали, включая его самого! Я его спрашивал: «А правда, что и Вас домой не впускают после десяти?» Он вполне серьезно отвечал: «Да, а вдруг какой-то бандит приставит мне нож к горлу и заставит попросить домашних открыть. Нет, никого не пускают, даже меня. Такое уже не раз бывало. И тогда я ночую у меньшего брата, он живет через дорогу». Вот такие «веселые», но скупые встречались на моем пути бухгалтеры, страшно, по-животному обожавшие деньги, но не занимающиеся тем, что были обязаны делать – учетом .
В шикарной колхозной столовой Копанки был отдельно отличный банкетный зал, а из него вход в спецкабинет председателя, обитый кожей. Когда мы там иногда сидели с Болфой, он приглашал того колхозного главбуха и, смеясь, говорил мне: «Посмотри на моего ровесника, я хоть повидал мир, людей, вещи, а у него денег больше, чем у меня во много раз, а он в одних простых штанах уже три года ходит! Да плюнь ты на все, да поживи, как люди!»
Ушло то время, ушли те люди, сегодня село Копанка – это десятипроцентные руины знаменитого колхоза. Уничтожено практически все, в т.ч. прекрасный тепличный комбинат. Копанка откололась от единокровного с ней Слободзейского районе, ушла под юрисдикцию Молдовы. Ну что ж, будет работа для очередного исследования румынским академикам, только уже наоборот – как можно с больной головы, своими руками рай превратить в ад и еще гордиться этим.
ПРОВОКАТОР
Провокация – расценивается как подстрекательство, побуждение к вредным для кого-либо действиям или решениям. Понятно, что того, кто занимается провокационной деятельностью, считают и называют провокатором.
Если изначально провокаторами считались различные тайные агенты, к примеру, правоохранительных органов, внедряемые в какие-либо партии и организации с целью провоцирования их на какие-либо противоправные действия с последующим разоблачением и ликвидацией и т.п., то со временем спектр провокационных действия заметно расширился.
Например, весной крестьяне подготовят почву под посев, а сразу не сеют, «провоцируют» сорняки на всходы, когда те сдуру выскочат из-под земли на свет божий, думая, что они одни на том поле, а их тут или прокультивируют или уничтожат гербицидами. А сколько было на нашей памяти разных провокаторов! Одни создавали финансовые пирамиды, и люди шли за ними добровольно, деньги обещали большие, так провокаторы нажились, а миллионы людей остались ни с чем. Провокаторами были и те, кто метал пламенные речи за ваучеризацию и приватизацию, за реформы в АПК и фермерство и т.д.
Главной отличительной чертой любого провокатора, является его продажность, действия его обязательно приносят кому-то зло и то, что он, как; правило, остается в тени, т.е. незаметным. Провокационная деятельность или «провокаторство», это даже не профессия. Это генное состояние души. Это неизлечимый вирус и неистребимый. Найдут лекарство от самых страшных болезней когда-нибудь, а от этой болезни-призвания лекарства никогда не будет. А зла от провокации может быть неимоверно много, все зависит от масштаба и уровня провокационных действий. Умышленно брошенное в толпу слово или случайный выстрел, приводили к революциям и мировым войнам.
По жизни людей-провокаторов часто называют «крысами» или «козлами». Должен заметить, что такие «козлы» бывают не только среди людей, но и среди животных.
Быль, которую я расскажу сейчас, листая ащелисайский альбом, в какой-то мере аллегорична, но поучительна. Многие, наверное, слышали про оренбургские пуховые платки и косынки, и, скорее всего, думали, что название «оренбургский» платки получили за какую-то особую региональную технологию вязания или расцветки. Отнюдь нет. Название это платки получили потому, что связаны из особого пуха коз оренбургской породы. Один раз в год, летом, коз этой породы буквально вычесывают специальными стальными гребенками-ческами и из полученного пуха, после его очистки и перемотки, вяжут знаменитые платки.
Понятно, что ащелисайцы – все об этом давно знают, но я пишу не только для них….
Конечно, пух можно и купить на рынке или у людей. Но при этом всегда существует опасность купить пух низкого качества или прошлых лет, или с чему-то смешанный и т.д… Лучше всего иметь своих пуховых коз. Так я много лет назад и сделал. Купил в г. Орске огромного, черного как смоль, козла. Я познакомился с хозяином, был у него дома, смотрел его козье поголовье и купил у него одного козла из трех, имевшихся в наличии. Хозяин тот обещал, что я обижаться не буду, предлагал еще купить пару коз, но я отказался, так как коз ненавидел с детства по разным причинам, а молоко от них не беру в рот.
Да и на молоко пуховые козы не удачны. А вот козла я взял исключительно ради пуха и не ошибся. На следующее лето мы с него начесали 1,7 кг пуха, это минимум на два больших платка. Жена научилась вязать такие платки, пух от козла был высочайшего качества, темный, ровный и чистый, не стыдно было одеть такие платки, ни жене, ни моим дочкам. На рынке в то время пух такого качества стоил 10-12 рублей за 100 граммов. Я за козла отдал всего 60 рублей, так; что он окупился за год, минимум, два года.
Но все это была мелочь, ничто по сравнению со всем остальным Козел наш мало того, что был рослым, он был подтянуто красивым, с гордой осанкой, и его саблевидные, сантиметров по 60 рога придавали его внешности, довольно угрожающий вид. В этом экземпляре козлиного рода, вместилось все – хитрость, коварство, обман, неуправляемость и непримиримость, в то же время уверенность и показная гордость.