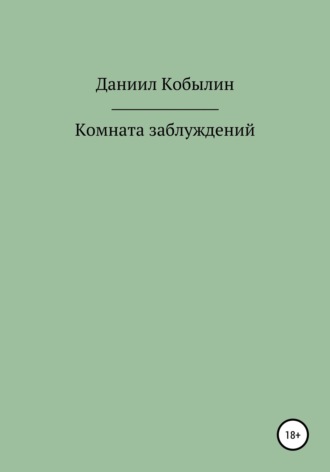 полная версия
полная версияКомната заблуждений
– Я готов, – разнеслось в заброшенной комнате. Он кивнул и отворил слегка прикрытую дверь, приглашая выйти на улицу. Я последовал за ним, но остановился на пороге, заострив внимание на двери. Наши переходы – это двери, двери сосуществующих миров, запертые на особые ключи, которые невозможно взломать, но которые со временем сами открываются для тех, кто избран, кто достоин прикоснуться.
Мы вышли из этого мёртвого здания и до меня донеслись странные лающие звуки – их хозяева находились в стенах других таких же заброшенных и покосившихся домов с выбитыми глазницами окон, выражающих глубокую скорбь и нечеловеческий ужас. Казалось, что некоторые голоса издавались откуда-то снизу, из-под земли, за этой немощёной дорогой.
– Они не готовы, – словно прочитав мои мысли, выговорил сопровождающий. Его голос был таким же странным и клекочущим, как и у тех пленников, ожидающих своего часа пробуждения. Он вывел меня на Федерал-стрит и здесь, под открытым небом, с давно неработающими фонарями, было намного светлее, чем в том доме. Я обратил внимание, что он не стеснял более себя одеждой: его белесый живот выделялся на фоне места, что было создано руками людей и сохраняло их душевную обыкновенность, казавшуюся неуместной здесь, ибо по этой земле уже давно не ходили люди в привычном понимании этого слова; в некоторых ещё оставались жалкие крохи человечности, но это стало рудиментом, что вскоре исчезнет навсегда. Мы медленно передвигались, неуклюже, но удерживаясь на двух ногах. Он стремился ускориться, перейдя на четвереньки, но заметив мою слабость и неготовность, передумал. Неутолимая жажда, что давно преследовала меня, перейдя на кожу, давалась с тяжестью. Он понимал мощность страдания, потому что когда-то прошел их сам. Всё больше мир былой роскоши, что проскакивал слева, вызывал отвращение, поэтому я рассматривал проводника. Его склизкая кожа неприятно поблескивала жиром при лунном освещении; и хоть здесь тяжело было разглядеть её цвет, я знал, что она серовато-зелёного оттенка, больше напоминающая кожу утопленника. Жабры на его шее постоянного пульсировали, а рыбоподобная голова вечно была устремлена в одну сторону по направлению к рифу – так или иначе, он звал нас всех.
Мы подошли к поистине величественному зданию с колоннами, бывшим ранее масонским храмом; теперь же он был очищен от всего лишнего и принадлежал культу. Дверной проем был приоткрыт, нас поджидала фигура в строгом ритуальном облачении и с манящей бело-золотой тиарой на голове. Сопровождающий своей перепончатой лапой остановил меня, а сам отправился к священнику, чтобы что-то сказать ему. Пока я рассматривал старинное здание "Эзотерического ордена Дагона", разносились их гортанные голоса: их понимание ещё норовило запутать, так и представляя собой набор странных пробирающих звуков. Были понятны только отдельные фразы и простые предложения, и то, когда говорил наставник, но он успокоил, сказав, что, как только я попаду домой это перестанет быть проблемой. Мне представлялось это приспособлением к иностранному языку, когда через некоторое время, незаметно для себя, начинаешь думать и бегло говорить на этом казавшемся диковинном наречии так спокойно и уверенно, оперируя словами и мыслями с ловкостью, но это только припоминание возвращает родное. Сейчас, различались какие-то редкие слова, но это не выстраивалось в цельную картину, оставаясь каким-то потусторонним лаем. Они вели недолгую беседу, после которой существо в тиаре обратно удалилось в храм, а проводник, терявший свою мерзость в моих глазах, поманил лапой, призывая пойти дальше. Я подошел к нему, и он стал что-то объяснять. И сквозь непривычные, но уже не пугающие как раньше звуки, выскакивали понятные обрывки:
– Все идут в храм…Служба. Нас не будет…Сказал, что пора…обратился…Риф ждет…получил одобрение, – он безостановочно жестикулировал своими лапами, усиливая эффект и мощность клекота и узнаваемых слов.
– Понял, – лающе ответил я, надеясь, что он восстановит тишину и прекратит кривляния. Это не так просто – стать полноценной частью забытого мира.
До нас стал доноситься шум воды, постепенно становясь громче и отчетливее, а вступив на широкий мост с железными перилами, он поглотил нас полностью, позволяя мне в последний раз подумать о том, как резко это произошло. Вся моя жизнь становилась блеклой и являлась только подготовкой к чему-то более грандиозному и настоящему. С какой стати это барахтанье я называл жизнью, если моё рождение только предстоит. Всё, что окружало раньше было тенью, неявной декорацией, симулякром, пытавшемся заменить реальность, забытую в крови, но не значит мертвую или безумную, как они пытались навязать, сами объятые пастью сумасшествия. Шум текущей внизу реки давал возможность трезво и ясно оценить каждое событие прошлого. Это страх въевшегося обмана, лжи, вскормленной за беспросветные годы, терзал меня, постепенно ослабевая, и контуры видимой нормальности размывались истиной. Сны – якобы абсурдные переживания жизненных событий, были призывами подсознательного подготовиться к будущему, что неотвратимо ожидает. И как глупо было страшиться их и пытаться сбежать, забыть, стереть, всячески избавиться. Я был глуп и слеп.
Мост подошел к концу, и мы вышли на большую полукруглую площадь. Несколько проржавевших легковых машин и фура были беззаботно брошены прямо на проезжей части; они знают, что посторонних быть не может. Глаза сразу же обратились к "Гилман-хаусу", с его вялыми остатками жёлтой краски на стенах. Я чувствовал, что теперь и сам знаю, куда идти. Сквозь объятый зловещей мглой город, риф ярко блестел в голове, завывая и призывая, ожидая меня. Я не заставлю его долго ждать.
Позади доносились какие-то жалкие квакающие попытки остановить меня, но он выполнил свою работу; конечная точка глубоководным маяком ясно призывает к себе. Зов выбрал Марш-стрит как наиболее продолжительный путь, и не мне препятствовать его воле. Преследования не было, но из домов, которые теснились друг с другом, начали выходить жители города; кто-то выглядел точно также, как мой бывший наставник, только одеты они были в лохмотья, что в прошлой далекой жизни являлись роскошными костюмами, их рыбью голову и выпученные без век глаза ничем не спутаешь; кто-то походил на людей, на мерзких и отвратительных, отталкивающих, но все же людей в заляпанных грязью дешёвых старых пиджаках и обтертых рабочих брюках. Их ещё не позвали. Никто из обитателей не боялся, только ждал своей очереди, посещая службы и имитируя надоевшую жизнь. Из каждого дома, будь то совсем обветшалое здание с пробитой крышей и заколоченными окнами или вполне сносное для жизни обиталище, появлялись эти люди с сутулой осанкой и длинными конечностями. Наверно, сейчас на этой улице должна была стоять удушающая вонь, тошнотворный рыбный смрад, но я ничего не чувствовал, кроме зова и путающихся мыслей, пока спускался вниз по улице, а они поднимались вверх, толпой направляясь в сторону церкви, тихо переговариваясь своими гортанными голосами, выкрикивая иногда странные звуки, забывшие некогда родную речь. Как-то быстро я оказался в центре отвратительно шумного организма, мешающего пройти дальше. Мне пришлось продираться, и никто не был против, но их лица, немигающие глаза, редкие плешивые волосы, странной формы уши возникали то тут, то там, запутывая окончательно. Жажда становилась невыносимее, а давка – тяжелее, как неожиданно, это разношерстная банда, пытающаяся выглядеть по-людски и сохранить остатки прежнего вида по привычке, закончилась, забором спин отделяя улицу. Освободившись из их тучного общества, ступив во владения Уотер-стрит, заметно полегчало. На этой улице обосновался небольшой пирс, который и завершал моё сухопутное путешествие. На нем уже маячила знакомая фигура, сопровождавшая ранее; выбрав более быстрый маршрут, он верно ожидал моего появления. Они действительно также сохранили свою индивидуальность, и глаз стал способен увидеть; у этого, допустим, жабры больше, чем у остальных. Интересно, а как выгляжу я? Их внешность больше не отталкивала своей мерзостью, общая кровь соединяла нас, а эти клятвы, данные мной, разве они что-то значили? Мне было суждено уйти в воду по праву рождения. Пирс обдувался небольшим ветерком, приводящим в движения волны и приносящий с собой счастье и освобождение; мрачное прошлое теперь виднелось как на ладони – эти связи и порывы гнева легко объяснялись, как и все принятые решения. Моментами воспоминания прошлого, казавшиеся теперь мнимыми, перебивались более яркими кадрами из подводной жизни – они напоминали про шоггота и собственный дом, в котором кто-то ждал меня. Я знал, что там больше не придется быть одному. Подойдя к краю причала, я всмотрелся в чёрную воду и попытался разглядеть манящий риф, содержащий в себе причину, пещеры и решение, но это было тщетно. Больше не надо ждать, и бессознательный прыжок был совершен, я чувствую, как жажда уходит, а холодная обжигающая вода приятно утоляет её, увлекая поскорее найти свой дом на морском дне.
6
Где плавал я, туманом унесенный?
Чувства высосаны поцелуем небытия, я был опустошен и неограничен.
Всё непостоянное, переливающееся из одной формы в другую, изменяющееся в размерах, зигзагообразно проплывающее мимо. Никак не удавалось разглядеть свои руки, словно руки другого человека, расплывчатые и далекие, поддернутые слепой дымкой; такие неживые, скорее игрушечные, белые, на одной – чёрная бинтовая повязка. Пальцы удлинялись и смотреть на это не было сил – к горлу подкатывал отвратительный комок горечи. Я мог свободно ходить, всячески передвигаться по этому месту, но и пространство делало то же самое. Чёрная пустота с белыми контурами каких-то странных геометрических вещей. Они были идеями и материализовывались, внезапно воплощались в разнообразных предметах. Мне казалось, что я управляю этими процессами, но вместо роз появился страх, тягучий и зеленоватый, а ящики становились фиолетовыми отростками апатии, не имеющими запаха; все время возникали какие-то шланги и порванные полотенца, некоторые из них хотели меня обхватить и удержать, некоторые безвольно пролетали дальше, напоследок ударяя и отрывая части моего тела: оно фрагментарно рассыпалось. И, когда этот мир, включающий в себя чужеродные элементы, начал складываться карточным домиком, трансформируя и моё тело, я не испугался, только согласился с его законами и стал ждать в надежде, что здесь и закончу своё материальное существование и клетка будет свободна: мне больше не придется играть в утомляющие чувства.
Мир изменился, изменился и я, и новые формы были совершеннее прежних; частички того, что раньше называлось моим телом, отсоединялись и разлетались в разные стороны, рассеиваясь, имманентно распространяясь. Я видел каждой этой каплей, перелетал из одной формы в другую; был одновременно скоплением эклектичных образов и представлений, находясь не только во всех вещах, но и над ними, взирая с непривычных ракурсов; находился везде, в любой форме, даже если она не подвластна человеческому языку, невозможна для помышления в мире привычных контуров – человек слишком слаб и ограничен барьером восприятия от нечто, несомненно испугавшего и помутнившего бы его рассудок иным порядком. Я был всем и ничем. Я был везде и нигде. Я никогда не существовал и знал не понаслышке, что значит бессмертие. Я был пазлом, в то же время оставаясь только небольшим элементом этого пазла. Мне позволили почувствовать, что значит быть вне времени и пространства. Невозможно словами описать тот трепет, но это было прикосновение к чему-то лично разрушительному, но созидающему общему; к любви, что расщепляет. Нет избранных, защищенных от её чар, и она показала это, когда залезла внутрь меня; не было таких тайных уголков, до которых она не могла бы добраться, свободно и легко.
Я вкусил плод, что называют синестезией. Всё было смешано и всё ярко кричало о себе – я сам, по их примеру, заявлял о себе. Мы были единой частью, как изначально; моя привязка к материальному отягощала и здесь, умоляя увеличить привязывающие образы, облегчающие примеры, чтобы не сорваться в помутнение раньше времени, и она понимала их необходимость. Возник образ книги, тех великих книг, что постоянно ищут в затерянных местах, желая приобрести поистине зловещие секреты; её корешок тихо звучал и отдавал запахом серы. Для меня она создала образ книги, знакомый по мечтам, и начала перелистывать ветхие страницы. На них не было букв или цифр, никаких знаков, но я видел историю, бесчисленное множество параллельных историй, где каждое событие запускало цепочку новых, порождая альтернативные миры: некоторые, начиная из разных мест и проходя совершенно непохожие пути, в итоге пересекались и срастались в узел, это выглядело как синтез двух миров – очень редкое и красивое явление, несравнимое с чем-то, происходящим на земле. Я видел свою прежнюю жизнь, пройденную и оставленную, восполняя пробелы и недопонимания, со всей яркостью развилок принятых решений, и то, что казалось невозможным для осуществления тогда, здесь выглядело очень просто: мои внутренние страхи сковывали и обманывали, но в книге ужасные тени сомнения не затмевали солнце, а гиганты имели слабость карликов. И всё же, несмотря на бесчисленное количество более гармоничных и удачных версий меня, то были другие люди, сам я жил не в книге, только здесь, в этом вдохе, со всем набором решений, желаний и последствий. И хоть тропинок экзистенции было так много, что я запутался, но, под конец, они все ярко встречались в эпилоге, приводя к внутренней энтропии, к людскому угасанию и взрыву красок, наполняющих её к великому продолжению в пустоте. Здесь было множество и других нитей судеб – она с легкостью показывала каждую: некоторые люди совершали фатальные ошибки, но слишком поздно это замечали, а кто-то изначально не уделял внимания своему существованию, затуманенно обращаясь с ним как с дешевкой, не осознавая его ценность и уникальность; многие же были несправедливо лишены той или иной естественной нормы, но в её представлении, все были равны. Она продолжала листать, а я больше не мог принять такого количества новой информации, моля о прекращении пытки: каждая из нитей громко разрывалась в конце, запуская цепную реакцию, переливающуюся всеми цветами, в том числе и теми, что не существовали на Земле, отзываясь болью. Великий стыд и жалость обуяла меня, смотря на всех несчастных, не знающих конца. Стало ясно, что она выбрала не того принимающего; и вина за несовершенство стала на вкус, как кровь и мерзко скрипящим обломком стекла на доске играла свою мелодию на низких частотах. Она не сердилась, нет, она не могла злиться на одно из своих творений.
Её голос, не принадлежавший мужчине или женщине, отдавал обволакивающим теплом, разносясь везде яркостью чистейший цветов, невозможных в человеческом царстве. Она говорила о многих вещах, приоткрывая различные занавесы, скорее подготавливая к неизбежному, чего мне не стоило бояться или тем более сомневаться, когда придет время внизу. Она успокаивала, затрагивая такого объемного меня, но бывшего только маленькой частью, принадлежавшей ей, рассказывая, что именно, как и почему мы исказили. Обретенное чувство дома придавало уверенность, как же далеко оно находилось от тех посещенных мест! Я чувствовал приятную тоску, пахнущую как свежескошенная трава летним утром. Она сказала, что это только мельчайшая часть того, что ждет меня: пустота, без красок и высоких слов, но состоящая из спокойствия; воссоединение в последний раз и вечность молчания, не являющаяся той тишиной, к которой мы привыкли.
Пораженный представлением о таких высоких местах, мне снова стало страшно – на сознание давил испуг безграничности пустоты, заставляя удерживаться за человеческую узкость, исковеркав её святые слова, откровения. Беспокойство, тянущее вниз, пыталось разорвать нашу связь, призывая на помощь страх и сомнение, что уменьшали собственное представление и ощущение, чудовищно увеличивая остальное. Крупица сомнения может превратить человека в маленький комок белых атрофированных отростков, не желающих более иметь отношения с миром, быть частью жизни, открываться и доверяться новому, стесняться, осуждая и уничтожая себя.
Мне позволили побыть здесь некоторое время, открыв в недостижимых далях новые знания, которые теперь пришлось забыть на время. Именно тогда до меня дошло, что тьма, преследовавшая раньше, была тьмой ограниченности познания, а не глаз. Яркий свет сложно было игнорировать, если его источник не закреплялся за одну точку, излучаясь из всего непрерывно и неотразимо. Он не ослеплял, но проникал, одаривая пониманием. А внизу тело препятствовало его проникновению.
Сколько я там пробыл?
Может, моё откровенное путешествие заняло всего несколько минут, а, может, растянулось на долгие месяцы и годы. Для меня это было быстротечностью мгновения и долгой жизнью старца одновременно, и, когда оборачиваешься назад, чтобы вспомнить, кажется, несоизмеримый срок я провёл в откровении.
Домом я называл места, не понимая истинного смысла их значения. Разве те скорлупки имели право называться домами? Именно так мы и обманываем себя, обманываем собственным языком. И если я искал дом, искал ответы на вопросы, хотел разобраться в себе, освободившись от тысячи масок и переосмыслить всё своё горестное существование, то здесь эти тяжёлые вопросы не имели веса, они раскрывались без тяжести, их образы пылинок покрывали только небольшую часть моего тёмного тела.
Я говорил и ощущал аромат небытия; я молчал и слушал звучание Космоса; я впитался в него, и мне больше не требовалось что-то осязаемое представлением, чтобы зацепиться за рассуждение, вступив в диалог – больше не требовались образы, и она перестала себя сдерживать, показав пустоту. Это происходило там, где каждая звезда и скопление больших и малых вселенных были только очередным фоном, чтобы скрыть первородное лоно. И именно там, куда нет доступа человеку в его привычном обличии, я узнал всё то, что ищет человек в материальности жизни, но не смог унести с собой, кроме вернувшейся памяти. И это было драгоценным подарком, более того, она хотела поделиться со мной и дала чудесное видение – и это намного больший дар, который я получил из её благословленных рук. Я поверил, что на самом деле силен, ибо смог распространиться и вовлечься в движение, сохранив себя. Конечно, она оберегала меня: мой черед ещё не пришел.
7
Всё это время материально я не покидал пределов комнаты: лежал в кровати, погруженный либо в глубокие и лживые сны, либо в небесные откровения. Точно не скажешь, только удивлялся, примеривая один мир за другим, как удобные костюмы. Я окончательно открыл глаза. Комната была освещена блеклостью утренних красок. Аккуратно меня окутывало предвосхищение чего-то настоящего, глубоко запрятанного, не облеченного в форму мыслей. Тело ломило от долгих переворачиваний и продолжительных застоев, но жара больше не чувствовалось. Приходило постепенное освобождение от болезни. Я ждал его, не надеясь обрести, погруженный в зловонную топь огненного болота. Где-то в голени, больше не скрываясь под тонкой кожей, болела и пульсировала толстая и длинная, словно русло зеленой реки со своими притоками, вена. Её продолговатое очертание спокойно нащупывалось слабыми пальцами; она гудела и не знала покоя – в спальне, за исключение назойливого тиканья часов, было так тихо, что я слышал её томные негодования. Она хотела вырваться, утянув с собой в бесконечно холодный океан. Откидывая в сторону огненное одеяло, я встал, поеживаясь от весенней прохлады прозрачного утра. Всё было как прежде. Медленным шагом, переставляя ноющую ногу с одного места на другое, я подошел к окну. Сквозь штору виднелся рассвет нового дня; лучики утреннего солнца нежно проходили сквозь стекло, пронзая неплотную ткань, и продолжая свой путь дальше. Мысли, беспокойно копошась серыми червями в рыхлой земле, перебивали друг друга. Они были несобраны и ускользали, полуувиденные. От этого утро приобретало оттенок тревоги и некой скорби, всегда сопутствующей новым главам. На улице было тихо и безлюдно.
Я вернулся к столу, на котором так и осталась забытая с ночи кружка. На дне осталось немного воды, пережившей ночные кошмары и сонный бред озноба. В моих руках очутился сборник Кафки, что притаился, забытый, рядом. Открыл книгу на странице, где покоилась Её закладка, сделанная из старого билета выставки не очень известного художника – мы познакомились там, оказавшись единственными ценителями его работ, непризнанных до конца, но обворожительно гениальных. Бегло я прочитал следующий отрывок:
Я служу по уезду и исполняю свой долг до конца, через не могу и еще сверх того. Тружусь за копейки, но бедным помогаю самоотверженно. Да еще о Розе надо бы позаботиться, а так малый прав, умереть я и сам не прочь. Что я делаю здесь, посреди зимы, которой не видно конца! Лошади моей как не бывало, и никто не дает мне свою. Этих вот вытащил из свинарника, если б не они, пришлось бы ехать хоть на свиньях.
Отложив книгу на место, я вспомнил, как познакомил Её с Кафкой, когда прочитал вслух рассказ про хитроумное изобретение для наказания в одной исправительной колонии – Она заразилась его творчеством и за несколько дней перечитала все книги, что были в моем распоряжении.
С самого пробуждения чувствовалось, что Её больше нет – осталось только развеять призрак Её присутствия. Где Она теперь? Наручные часы – единственный источник шума в комнате, начинавший подбешивать, показывали 6:49. На поднятом стуле, как прежде, покоилась моя одежда, брошенная сюда, кажется, годы назад. Быстро натянув на себя джинсы и футболку, я вышел из спёртой спальни, не желая более возвращаться.
Из ванной доносился какой-то шум, напоминавший о прошлой жизни. Казалось, что всё вокруг поддернуто какой-то вычурной дымкой, застилающей глаза. Возможно, это уже подводило зрение, быстро изменяющееся в отрицательную сторону. Даже собственное тело любит порой истязать человека, заблуждая его, а мозг охотно принимает ложь. Продолжая ощущать выделяющуюся болью вену, я ворвался внутрь.
В истерике билась стиральная машина, в её вращающемся до неприличия барабане крутилось только чёрное белье. По всей комнате были разбросаны полотенца, разные по форме, цвету, узорам и размерам. Из лейки душа выплевывалась быстрая неугомонная струя, наполняя ванную до предела. Я появился вовремя, чтобы выключить воду, что обожгла льдом, на долю мгновения пробрав до костей. От неё несло запахом вареных яиц. В зеркале, висевшем над раковиной, отражался потерянный постаревший мужчина. Он выглядел так, словно не спал несколько недель и за ним велась усиленная погоня. Откуда эти выразительные мешки под глазами? Что за убитое выражение скучного лица? Почему белки его глаз почернели? Я продолжал рассматривать незнакомца, пока нечто небольшое не промелькнуло позади меня, испарившись за дверью. Та самая подозрительная тёмная сфера, посещающая время от времени. Очередной обман, но мне пришлось последовать за ней, ибо тщательности и беспрекословного повиновения требовал обычай. Давно её не было, но тело не забыло покалывание, ознаменующее приход. Я оказался на кухне. На столике, где мы привыкли обедать, стояла Её любимая кружка с недопитым кофе. На плите находилась заляпанная турка. Кофе был холодный и горький на вкус. Эта синяя кружка с изображенной на ней Пизанской башней, вечно падающей в неизвестность, разговаривала со мной без слов и призывала нужные мысли. Всё постепенно становилось на свои места, пробуждая окончательно. Я не мог оторвать взгляд от неё, а она продолжала срывать очередную завесу жизни, проникая в любую тайну моей души не хуже, чем то откровение в мрачной Вселенной, как это вырисовывалось в ускользающем воспоминании. Да, теперь я видел.
Сразу же, как меня пронзило понимание происходящего, я почувствовал затылком упорный и недружелюбный взгляд за спиной. От неожиданности я выронил кружку, и она разбилась, разлетевшись на множество осколков, разрушая архитектурное сооружение итальянских мастеров. Но, обернувшись, мне предстояла встреча только с пустой квартирой. Никого не было и быть не могло. Но что-то мой глаз приметил, что-то настолько маленькое, но в то же время отмеченное принадлежностью к другой природе. На расстоянии в несколько шагов от меня обнаружился подозрительный разрезик, настолько маленький, что его можно было бы и не заметить, но он истекал истинной чернотой, приковывающей взгляд, выделяющейся своей неестественностью. Разрез не принадлежал ни одной вещи, только повис в воздухе, словно рана, нанесенная самой прозрачности, самой идее бытия. Пальцами я ухватился за его края, и они вошли во что-то мягкое и теплое, и начал растягивать, как жевательную резинку. Он с легкостью поддался на подобные манипуляции и стал разрастаться, забирая с собой окружающие цвета и делая всю квартиру и её наполнение очень тусклым, практически серым. Теперь это была кровоточащая рана, извергающая густую и плотную бездну, расширяющуюся дальше уже без моей помощи. Чернь, оставшаяся на пальцах, такая вязкая, начала распространяться, окутывая и меня, словно отсоединяя от своего тела, позволив наблюдать, как оно покрывается пленкой, как и комната. Когда все цвета пропали и не осталось ни одного места, не затронутого новой материей, произошла вспышка, оглушительный взрыв, сильнее, чем тысяча солнц, вернувшая всё на место, включая меня в своё тело, воссоединив союз материи и души. Я снова находился один в потускневшей картине обычной квартиры, поставленный на колени нестерпимой болью. Руки-тиски, сдавливающие раскалывающуюся голову – объект окончательного откровения, ознаменовывали пробуждение от заблуждения. Это была оглушающая боль вины и незаметная свобода, больше ничем не скованная. Они возникают вместе, и когда ты принимаешь вину, начиная трезво смотреть, то получаешь и собственную свободу от осуждающих демонов сердца, проклинающих язычников сознания и ложно направляющих призраков огорчения и неуверенности. Я долго бегал от себя, но теперь выбрал прозрение.

