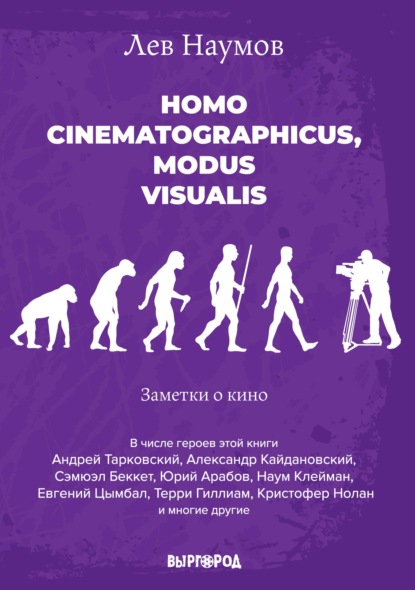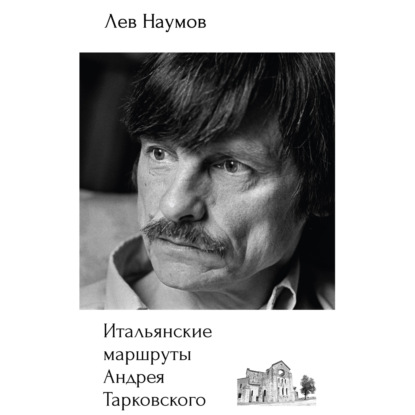Полная версия
Итальянские маршруты Андрея Тарковского
Отдельно следует упомянуть чрезвычайно эклектичное музыкальное оформление фильма. Пьер Паоло использовал произведения Баха и Моцарта, фольклор Конго и Бразилии, блюзы дельты Миссисипи, звучит также негритянский спиричуэлс «Sometimes I Feel Like a Motherless Child»[46] в исполнении легендарной Одетты. Особенно много русских композиций: от православных хоровых песнопений и народной баллады «Ах ты, степь широкая» до революционного реквиема на слова Архангельского «Вы жертвою пали в борьбе роковой», а также двух произведений, написанных Прокофьевым для картины Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) – «Русь под игом монгольским» и «Крестоносцы во Пскове». Так вся мировая культура у Пазолини адсорбируется религиозным сюжетом. В каком-то смысле, этот художественный процесс – обратный по отношению к историческому.
Поворотной работой в фильмографии режиссёра стала лента «Птицы большие и малые» (1966), в которой критике подвергаются не только католичество и коммунизм, но и идеи, как таковые. Удивительная притча о путешествующих отце и сыне – а какие ещё существуют надёжные связи между людьми? – которые постоянно оказываются в опасных ситуациях, участвуют в конфронтациях с внешним миром, сталкиваются с огромным множеством проблем, за исключением единственной – конфликта отцов и детей. Они никогда не ссорятся между собой, и именно это помогает им преодолевать препятствия.
Действие фильма, казалось бы, начинается в настоящем, но Пазолини остаётся верен своему пристрастию к мифу, и вот герои получают задание от самого Франциска Ассизского – донести слово Божье до птиц небесных, больших и малых. Не будем раскрывать, как это происходит, отметим лишь, что идея общения с воробьями головокружительна. Вообще, лента блещет россыпью оригинальных сюжетных, стилистических и технических ходов, которые могли прийти в голову только такому мастеру, как Пазолини, начавшему свой путь в кино уже зрелым автором, а потому имевшему существенно более широкое и менее зашоренное мышление. Чего стоят одни начальные титры, реализованные в виде песни! Парафраз русской «Катюши», который написал композитор Эннио Морриконе, забыть вообще невозможно!
Акцентирование отношений отца и сына, личность святого Франциска – всё это тесно связывает фильм «Птицы большие и малые» с творчеством Тарковского, но не менее примечательны параллели и со следующей работой Пазолини – картиной «Теорема» (1968). В ней появляется то, что Андрей впоследствии будет называть «микропейзажем». Ещё герой читает повесть «Смерть Ивана Ильича» Толстого, о которой мы будем вспоминать ещё неоднократно. Более того, в каком-то смысле «Теорема» – это «мостик» от кинематографа Тарковского к кинематографу столь любимого им Довженко.
В этом фильме, то бессловесном, то, наоборот, крайне многословном, но неизменно наполненном фоновыми звуками, Пазолини будто бы ищет свой язык и находит его. Отъезд одного персонажа принципиально меняет мир для многих, и некогда цельная история разваливается на совокупность независимых, сугубо индивидуальных сюжетов. Их объединяет то, что чудеса и страсти в религиозном смысле становятся элементами повседневности. Колебания пафоса происходящего подчёркиваются музыкой – звучит то мелодический авангард Морриконе, то литургическая классика.
В этом немудрено увидеть окончательный переход режиссёра к магическому реализму, но из головы не выходит название: в чём же, собственно, теорема? По признанию самого автора, своим фильмом он, действительно, хотел представить едва ли не математическое доказательство тождественности марксизма и религиозной мифопоэтики. Необходимо отметить, что через призму этой задачи часто смотрят и на другие ленты Пазолини, из-за чего возникает слишком однобокая картина.
Внимательный зритель наверняка отметит, что сцена с Эмилией снималась в том же месте, что и эпизод с сыном Аккаттоне, но на этот раз та же локация предстаёт в цвете. Так Пьер Паоло «обживает» Италию, преобразуя её в собственную кинематографическую реальность.
После просмотра фильма «Медея» (1969) с оперной дивой Марией Каллас в главной роли, кажется, будто лента довольно серьёзно отличается от одноименной трагедии Еврипида и прочих изложений жития колхидской царевны-колдуньи. Но ведь миф – на то и миф, у него может не быть первоисточника, и произведение Пазолини просто становится с классиками в один ряд.
Помимо сюжетных новаций, созданная Пьером Паоло костюмированная картина несёт печать просвещённого и трезвого взгляда XX века, проводником которого становится Хирон – кентавр-воспитатель Ясона – исполненный блистательным французским артистом русского происхождения Лораном Терзиеффом.
Этот персонаж разъясняет всё! Создаётся впечатление, будто он ведёт не только Ясона, не только зрителей, но и самого режиссёра. Нет-нет, да заявит кентавр, существо из древнегреческого мифа, что никаких богов на самом деле не существует. Или сообщит, что в этой истории «слишком много деяний, но нет мыслей». Обладая даром предвидения, Хирон определяет и сюжет, предупреждая своего подопечного, что дядя отправит его за чем-то «вроде золотого руна». Может быть, весь древний мир, это не более чем иссиня-чёрный сон мудрого кентавра?
Неожиданная находка Пазолини, связанная с этим персонажем, заключается в том, что он появляется то в обличии получеловека-полуконя, то в виде обычного мужчины. Именно так, надо полагать, его воспринимал Ясон. Зрители же, видящие Хирона подобным образом, по аналогии становятся его подопечными, которых он научит понимать происходящее.
Всю трагедию Медеи кентавр объясняет в двух предложениях: «Женщина из античного мира попала в мир новый, не признающий её ценностей. Её просто занесло не туда». Но ведь тот, кого «занесло не туда», не обязательно будет немощным на новом месте. Напротив, он может оказаться слишком могущественным, и это ничуть не меньшая трагедия.
Отделение античности от основного времени повествования – одна из важных черт этого фильма. Произведение излагает не конкретную древнюю протоисторию: за сюжетом проступает колоссальное пространство забытых и величественных событий, в которых вполне могла бы участвовать Медея, но её «занесло не туда».
Амбивалентность – важнейшая отличительная черта почерка Пазолини, и именно эта картина полнится подтверждениями тому. Одно из ключевых связано с финалом. Зрителю представляется несколько трагических версий развития событий, каждая из которых может на деле оказаться лишь сном колхидской царевны. Подобного рода игра со временем стала основой плетения кинематографического полотна для многих режиссёров, в том числе и для Тарковского в «Жертвоприношении». Она сформировала базу для отдельной ветви киноведения – психоанализа кино. Пьер Паоло же использует этот приём походя, наряду со множеством других находок, не заостряя на нём внимания, будто здесь вообще нет ничего особенного. Примерно так же он относится и к пространству, ведь существенная часть сцен снималась на соборной площади в Пизе (@ 43.722890, 10.395020), но известная башня ни разу не попала в кадр. Ни к чему.
Заканчивая разговор о Пазолини, следует вспомнить и его так называемую «трилогию жизни», которую составляют фильмы «Декамерон» (1971), «Кентерберийские рассказы» (1972) и «Цветок тысяча и одной ночи» (1974). Уже само название триумвирата, в купе с выбором легших в основу произведений, вызывают вопросы. Почему «трилогия жизни» – набор экранизаций? Почему картины сняты именно по сборникам «сказок», устных по происхождению, разношёрстных по сюжету и порой сомнительных с точки зрения морали?
Подобно крупнейшему писателю-реалисту Бальзаку, Пазолини исходил из невозможности прямого выражения, непосредственного предъявления «истины», «действительности», «жизни». Чтобы прикоснуться к подлинному бытию в его завораживающей сложности и удивительном многообразии, французскому писателю потребовалось создать более ста тридцати романов, повестей и трактатов, составляющих «Человеческую комедию». Аналогично, Пьер Паоло использовал семь новелл итальянского Ренессанса, восемь среднеанглийских поэтических сюжетов из незавершённой книги, сдобренных множеством образцов арабской фольклорной экзотики. Заметим, что у Бальзака и Пазолини в историях проступает некое единообразие. Так может быть в том, что у них повторяется, и заключена инвариантная суть жизни?
Многие итальянцы брались экранизировать «Декамерон». Ещё до ленты Пьера Паоло вышел альманах «Боккаччо-70» (1962), в котором Марио Моничелли, Федерико Феллини, Лукино Висконти и Витторио де Сика представляли современную интерпретацию классических сюжетов земляка. После Пазолини это делали Паоло и Витторио Тавиани. Их «Декамерон» (2015) существенно более академичен. Впрочем, нужно понимать, что братья снимали свою картину, будучи почти вдвое старше.
В череде экранизаций одного их важнейших текстов Возрождения работа Пьера Паоло занимает особое место. Именно потому в Италии фильм Тавиани вышел в прокат под названием «Чудесный Боккаччо», а для самой постановки режиссёры не взяли ни одной из тех новелл, которые использовал Пазолини. Название «Декамерон» в итальянском кино навсегда закреплено именно за ним.
Итак, каждый из литературных первоисточников «трилогии жизни» представляет собой сборник историй, объединённых некой сюжетной оболочкой, предлагающей читателю объяснение того, почему герои начали рассказывать друг другу эти сюжеты. Нужно сказать, что с оболочками Пьер Паоло поступает ничуть не менее вольно, чем с основным содержанием. Так жизнелюбивый и оптимистичный «Декамерон» Пазолини лишён чумного трагизма, который толкает трёх юношей и семь девушек на краю бездны повествовать друг другу о любви. Люди с красивыми телами и ужасными зубами существуют в сюжете без причины, они могли пригрезиться в любой исторический момент, при произвольных обстоятельствах. Именно пригрезиться! В каждом фильме трилогии имеется ключевая мысль: то ли эпиграф (хоть и озвучиваемый чаще в конце), то ли манифест. В финале «Декамерона» её произносит живописец, которого играет сам режиссёр: «Зачем создавать произведения, если так приятно просто мечтать о них».
В «Кентерберийских рассказах» Пазолини оригинальной оболочкой не пренебрегает: история о паломниках, держащих путь в Кентербери и встретившихся в трактире, по крайней мере, озвучивается. Но буйство сюжетных переходов в картине куда пышнее, чем в книге. Не говоря уж о том, что Пьер Паоло, исполняющий роль Чосера, сам придумывает один из сюжетов.
В отличие от предыдущей ленты, отдельные «Кентерберийские рассказы» не чужды мистики. Она с необходимостью возникает в «трилогии жизни». Наиболее ярким примером истории, в которой латентно участвуют неведомые силы, является новелла о смерти под деревом. Следующий фильм пойдёт ещё дальше в этом направлении.
Дотошный зритель может заметить совершенно немыслимые для Средневековья цвета костюмов или то, что герои играют с современным мячом, куда более прыгучим, чем древний аналог. Но вопрос об исторической или какой-нибудь иной достоверности вряд ли уместен. Пазолини, не дрогнув, жертвует чем угодно ради своего божества – красоты, достигая апогея её воинственности в монументальной заключительной сцене, представляющей собой будто бы кинематографическое воплощение образов Босха. Фраза-манифест, которая вновь звучит в последнем кадре, это подтверждает: «На этом я завершаю „Кентерберийские рассказы“, цель которых лишь в удовольствии рассказывать».
В фильме «Цветок тысяча и одной ночи» эпиграф звучит уже в самом начале, впрочем, дабы не выбиваться из трилогии, он повторяется и в конце: «Полнота истины не в одном сне, а в сплетении нескольких снов». Эта фраза, как уже отмечалось, объясняет задачи всех трёх картин.
Арабско-персидские сюжеты режиссёр снимал в Эфиопии. Эбеновые тела персонажей вкупе с более аскетичными колористическими решениями позволили достигнуть нового уровня визуального эстетизма при тех же принципах построения ленты и довольно близких сюжетах. А откуда взяться другим историям, если жизнь, проблемы и желания везде одинаковы, и нет под Солнцем места, где люди были бы лучше, чем в иных землях?
Для любимых актёров-итальянцев также нашлись роли в картине.
Выбор исполнителей – ещё одно средство создания содержания Пазолини, способ прочерчивания неожиданных параллелей. Разве Азиз в «Цветке тысяча и одной ночи», исходя из характера и обстоятельств судьбы, не сродни Андреуччо из Перуджи в «Декамероне»? Более того, первый является развитием последнего, потому их обоих играет Нинетто Даволи – один из главных артистов Пьера Паоло, снимавшийся в восьми его фильмах[47]. Это не единственный пример подобного «сквозного кастинга» в рамках «трилогии жизни».
При просмотре картины сначала складывается ошибочное впечатление, будто, наконец, «оболочка» чётко артикулирована, но это не так. Открывающая ленту история об умной и острой на язык рабыне Зуммуруд не имеет отношения к Шахерезаде и царю Шахрияру. Новелла о Зуммуруд не рамочная, а стержневая. Напоминающая роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» в миниатюре, она рассказывается на протяжении всего фильма и завершается счастливо – победой любви.
Кинематограф и трагическая судьба Пазолини оказали тотальное влияние на национальную и мировую культуру. Потому нет ничего удивительного в том, что волна его подражателей и последователей включает множество выдающихся мастеров, одним из которых является самый «неитальянский» итальянский режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Родившийся в ортодоксально-католической стране, он, называвший себя «буддистом-любителем», с самого начала творческого пути обладал совершенным и универсальным талантом, не столько отражающим местную специфику, сколько определяющим, каким будет кино на планете. Подобный мастер мог появиться на свет в любом уголке мира, однако исторический опыт показывает, что в каждом поколении таких – не больше десятка человек.
Уже первые картины Бертолуччи отличались, если не «всемирностью», то транснациональностью. Скажем, фильм «Партнёр» (1968) не выглядит итальянским, несмотря на то что в кадр иногда попадают наиболее знаковые достопримечательности Вечного города. Пропитанный Антоненом Арто, Жаном-Люком Годаром и Жаном-Полем Сартром, он кажется скорее французским произведением. Собственно, куда ещё были обращены все взгляды в 1968-м, как не на страну, где вспыхнул «красный май»?
Сами многомиллионные забастовки и студенческие волнения в ленте отсутствуют, хотя среди многих других звучит и известный по тогдашним событиям лозунг: «Запрещается запрещать». На самом деле, действие картины происходит девятью годами раньше, но протест и экстремизм уже витают в воздухе и проявляются во всём. Рим обклеен флагами Вьетнама и требованиями дать свободу этой стране. Герой сооружает гильотину, а потом изготавливает зажигательную смесь с водкой «Маяковский» – другая, надо полагать, не подошла бы.
В «Партнёре» много отсылок к русской культуре. Собственно, в основу сюжета лёг рассказ Достоевского «Двойник», проинтерпретированный режиссёром достаточно педантично. Нетрудно уловить игру с названием.
С точки зрения упомянутого временного зазора особое значение приобретает разговор о цветном телевидении и созерцании в цвете. Опуская подробности, обратим внимание, что действие происходит в 1959 году, цветным итальянское телевещание стало в 1966-м, а фильм (цветной!) снят в 1968-м. Таким образом, Бертолуччи однозначно помещает зрителей в число персонажей. Нельзя быть уверенным, что подобный поворот обрадует аудиторию, но это сделано крайне удачно.
В этой картине режиссёр ставит множество опытов с разными видами искусства. В сфере кино он исследует возможности, играя с пространством. Пробы, связанные с театром, продиктованы самим сюжетом. Эксперимент в области литературы заключается в определении предела податливости и ломкости текста XIX века. Однако этапной лентой в последовательности работ Бертолуччи представляется фильм «Конформист» (1970), в котором режиссёр исследует генезис фашизма в отдельно взятом человеке.
Казалось бы, в силу исторических событий эта тема – одна из магистральных для итальянского кино. О какой же «неитальянскости» тогда можно говорить? Удивительно, но даже несмотря на то что в кадре периодически появляются бюсты Муссолини, автор рассуждает именно об универсальной, обобщённой «коричневой чуме». Диктатор может выглядеть как угодно. Главный герой, Марчело Клеричи, многократно повторяет, что он итальянец и становится ясно: Клеричи столь настойчив именно потому, что это не имеет никакого значения. Куда важнее такие его особенности, как эдипов комплекс, острое чувство вины, а тажке уверенность, будто мир провинился перед ним…
«Конформист» снят по одноимённому роману известного итальянского писателя-коммуниста Альберто Моравиа, вот только книга вышла в 1947 году. Бертолуччи обратился к теме фашизма через двадцать три года, когда его коллеги-земляки давно перевели фокус на другие вопросы. В результате на экране разворачивается не история из прошлого страны, а непреходящий миф, в котором действуют не люди, а архетипы и функторы. В своём интервью[48], рассуждая о «Конформисте», режиссёр повторяет фразу Сартра, прозвучавшую ранее в его картине «Стратегия паука» (1970), экранизации рассказа Борхеса «Тема предателя и героя»: «Человек состоит из всех людей. Он равен им всем, и все они равны ему». Что же это, как не декларация всеобъемлющей универсальности на уровне замысла?
В другой своём известном интервью с эпатажным названием[49] Бертолуччи вспоминает, как предупреждал Моравиа: «Для того, чтобы быть верным вашей книге, мне придётся предать её». Писатель согласился, ведь предательство, которого невозможно избежать – одна из важнейших тем романа. Фильм «Конформист» показал, что кино может говорить об обобщённых событиях, как философских категориях, оставаясь при этом максимально конкретным. Подтвердил, что строгая структура, выстроенная сквозными образами, укрепляет сюжет. И в конечном итоге, сделал очевидным тот факт, что кино – это форма жизни. Точнее, что картина может оказываться жизненнее преходящей истории.
Оператором «Конформиста» выступал Витторио Стораро, которого после выхода ленты на экран критики окрестили ни много ни мало «богом светотени». Стораро снимал с Бертолуччи многие его последующие шедевры, а также работал с такими мастерами, как Карлос Саура, Уоррен Битти и Фрэнсис Форд Коппола. Под руководством последнего он снял, например, «Апокалипсис сегодня» (1979).
Главную роль в «Конформисте» исполнил не менее блестящий Жан-Луи Трентиньян. Образ Марчело Клеричи хорошо вписывается в его амплуа, но всё равно в изображении психологического портрета персонажа актёр нечасто достигал подобных высот. Точнее – глубин. Дело в том, что во время съёмок он узнал о гибели своей девятимесячной дочери Полин. Девочка задохнулась во сне. Сколь бы страшно это ни прозвучало, но режиссёр не преминул воспользоваться чудовищной трагедией. Разрушая Жана-Луи, на площадке он создавал Клеричи. Забегая вперёд, отметим, что Тарковский будет рассматривать и Стораро, и Трентиньяна для совместной работы над «Ностальгией».
В упомянутом выше интервью Бертолуччи рассказывает и о своём увлечении фрейдизмом, который сыграл системообразующую роль во многих его работах, и особенно в «Конформисте»: «Изучая психоанализ, я осознал, что создание фильмов – это мой способ отцеубийства. В каком-то смысле, я делаю картины, чтобы ощутить – как бы это сказать – удовольствие от чувства вины. Мне пришлось отдать себе в этом отчёт в какой-то момент. Мой отец тоже был вынужден принять, что его убивают в каждой картине. Он как-то сказал мне смешную штуку: „Умно ты придумал, ты прикончил меня столько раз и тебя за это не посадили!“»
Но «Конформист» оказался расправой не только над биологическим отцом – поэтом, кинокритиком и профессором истории искусств Аттилио Бертолуччи, но ещё и над одним из отцов-учителей. В данном случае речь идет не о Пазолини, которому Бернардо оставался верен всю жизнь. После того, как лента вышла на экраны, некоторые зрители обратили внимание, что адрес парижской квартиры профессора Квадри – персонажа, которого должен убить Клеричи – указывает на реальное место жительства Жана-Люка Годара. Жену профессора зовут Анна, а спутницей Годара в те времена была актриса Анна Вяземски. Более того, в речи Квадри внезапно возникают фразы из фильмов французского режиссёра. Бертолуччи поясняет[50]: «„Конформист“ – это рассказ обо мне и Годаре. Марчело – это я, снимающий фашистские[51] фильмы, и я хочу убить Годара, революционера и своего гуру». Бернардо был убеждён, что его работа понравится учителю. Тем более, что легендарное «Презрение» (1963) последний тоже снял по роману Моравиа[52] и отдавал в этом фильме дань уважения, например, «Путешествию в Италию» Росселлини.
Бертолуччи трепетал, пока Годар сидел в зрительном зале. Включили свет. Француз подошёл к итальянцу и, протянув ему бумажку, молча вышел из зала. Растерянный, Бернардо развернул послание. Это была фотография Мао Цзэдуна, на которой «отец» написал: «Ты должен бороться против индивидуализма и капитализма». А что ещё сказать, если тебя только что убили?
Герой Алена Делона, конформист Танкреди из «Леопарда», вполне мог бы оказаться на месте Клеричи, родись он веком позже. Как уже отмечалось выше, фильм Висконти задумывался в качестве полномочного представителя итальянского кинематографа в мире, а главным образом – в США. Этому не суждено было сбыться. Парадоксально, но такая судьба ждала картину, цель которой состояла лишь в том, чтобы убить двух человек – итальянского поэта и французского режиссёра. Впоследствии Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и многие другие будут говорить о «Конформисте», как о первом фильме, оказавшем на них влияние. Хотя на деле работа Бертолуччи не повлияла, но переопределила западное кино, с его фанатичной увлечённостью психоанализом, чёткой структурой, погонями, сексом, флешбэками в строгой последовательности, отчего даже комплексный сюжет остаётся совершенно внятным. Не исключено, что именно эта лента – наиболее непосредственный и неоспоримый вклад Италии в мировое кино, позволяющий предположить, будто колыбель классических искусств может претендовать на звание основоположницы и в сфере новейших. После эпохи доминирования неореализма, в ходе которой «красота» скорее дискредитировала картину, Бертолуччи вновь вернул её на экраны.
Однако двинемся дальше. Возвращаясь к тем случаям, в которых режиссёры-итальянцы апеллировали к духовному миру национальных локусов, следует упомянуть работу Антонио Пьетранджели «Призраки Рима» (1961). Сразу отметим, что этот фильм имеет мало общего с «Ностальгией», поскольку спиритуальная сторона жизни страны предстаёт здесь в чрезвычайно детерминированном и комедийном ключе. Марчелло Мастроянни в главной роли (точнее – в трёх ролях), а также музыка Нино Рота навевают ассоциации скорее с кинематографом Феллини, что небезосновательно, хотя на его фоне работа Пьетранджели отличается конкретностью и, в хорошем смысле, приземлённостью.
В центре сюжета старый дом – палаццо Ровиано, в котором, помимо пожилого владельца – дона Аннибале, обитают четыре призрака. Впрочем, и сам Аннибале ещё при жизни будто бы примкнул к стану потусторонних созданий. Он кажется нереальным. Ну где в Риме встретишь честного, благородного итальянца, ценящего традиции и историю больше денег? Именно этот трагический вопрос занимает автора фильма, как и многих других режиссёров-земляков. «Ностальгия по соотечественнику», жизнерадостному, честному, не меркантильному – одна из лейттем итальянского национального кино вплоть до наших дней. Особая ирония состоит в том, что роль дона Аннибале исполнил Эдуардо де Филиппо – настоящая легенда экрана прошлого.
Любое общество тщится быть современнее, но именно в Италии подобная тенденция становится особенно болезненной в своей неизбежности. Порой тут действительно кажется, будто «современнее» значит «хуже». Недаром один из призраков, ознакомившись с актуальной криминальной хроникой, был поражён: в какое сравнение нынешние козни и семейные убийства могут идти с его миролюбивым веком ядов и отравлений, с теми временами, когда он обладал плотью?!
И вот, после смерти благородного дона Аннибале, у палаццо Ровиано появляется новый хозяин, который готов продать уникальное здание, где уже несколько веков стоит «папское кресло» – то самое, на которое неизменно присаживался понтифик, заходя в гости. Кстати, из фильма зритель узнаёт актуальную цену этой недвижимости – в шестидесятые годы она составляла двести миллионов лир. Это интересно в свете того, какие дома будет рассматривать для покупки Тарковский двадцать лет спустя. В дневнике режиссёра множество выкладок с указанием стоимости заинтересовавших его жилищ[53].
Итак, палаццо грозит продажа и снос, с чем призраки категорически не готовы смириться. Пусть смерть им и не страшна, но вечное скитание без дома, будучи оторванными от корней, пугает изрядно. Режиссёр иронично показывает, что упомянутые корни значат для фантомов куда больше, чем для многих живых итальянцев. Однако возникает проблема: бесплотные существа ничего не могут сделать. Им под силу сбить причёску, подбросить монету, подставить подножку, но привидениям нечего противопоставить наступающей власти «золотого идола», который требует алтаря – на месте палаццо Ровиано планируется строительство крупнейшего супермаркета в окру́ге.