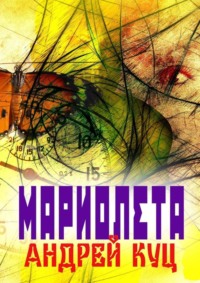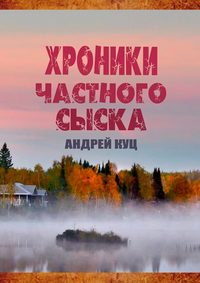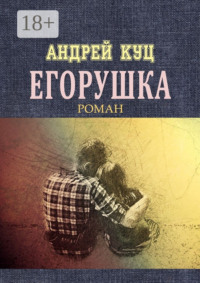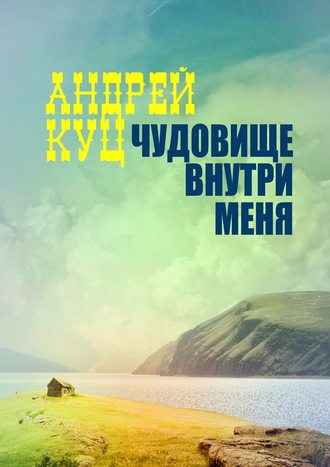
Полная версия
Чудовище внутри меня
– Ясно, – буркнул я, натягивая рубашку.
Мне претило, что он тайком проник в комнату, в которой я считал себя хозяином. Тем самым он указал на то, что я сильно заблуждаюсь, что в «Ключах» – Царь, это владения. Я – не его гость, я – его вассал. он его
«Что же это?.. Он со мной может сделать всё, что захочет, так, что ли? Это намёк?.. Ну, это вы, братцы, бросьте! Не посмеете вы переть на меня вот так вот в наглую да ещё сразу, с размаху-то, с разбегу».
К тому же раздражало меня и то, что он сидел в комнате, а может, не только сидел, в то время, когда я спал: беспомощен я был тогда, и вообще – в положении зародыша, в интимной позе, с подобранными к животу ногами, прячась в личном мирке сновидений.
Теперь же я не был одет должным образом. И поднимался с постели прямо перед ним, вальяжно сидевшим. Перед посторонним, по сути, человеком. Он застал меня без какой-либо принятой позы, надетой маски, в том положении, к которому допускаются только близкие, ну, может быть, добрые друзья. Я же – следователь. И ни какой-нибудь, а следователь прокуратуры, чёрт меня дери! Никто не смеет без разрешения влезать ко мне в постель! А если – с разрешением, то либо с моим, либо с соответствующим судебным постановлением. А так – никто и никогда! Не для того я делал имя, выслуживаясь и работая день за днём как проклятый, роясь в кучах грязного белья, да к тому же на самых дальних и паршивых свалках!
«Я, что же, должен вставать со сна и приводить себя в порядок перед этим посторонним грузным господином? На его глазах?»
Не хотел я этого. Не желал. Не так я всё планировал. Я должен был прийти к нему в кабинет, а он обязан был бы приветствовать меня и пригласить присаживаться по правилам, что приняты в цивилизованном обществе.
Меня бесила сложившаяся ситуация.
Я прочувствовал себя беспомощным мальчиком, угодившим во власть могучего дядьки, – которым я сам был вот уже не один и не два года! С какой же стати, спрашивал я себя, этот варёный помидор, раскрашенный по самое небалуй, взялся вести партию? На каких основаниях?
Я действительно был возмущён. Я негодовал! Я приехал не для того, чтобы играть в подобные игры. Такое я сам проворачивал каждый день по долгу службы. Но это в той жизни, мною, как я полагал, покинутой на десять дней. Когда этот срок пройдёт, я снова примусь за прежнее, и тогда снова не будет своих и чужих, потому что там, в той, оставленной мною жизни, все – волки. Там можно в один миг, как угодить в чью-то пасть, так и взлететь под облака – наслаждаться свободным полётом, всё видеть, над всем парить и выбирать добычу!
И вот мне предлагалась всё та же грубая и жестокая игра, конец у которой никогда не бывает хорошим: если сожрали тебя – понятно, тут уж конец всякой музыке, если сожрал ты – грех, а значит – совесть… и мучиться тебе безвозвратно – не проходимая то мука…
– У нас разговор как-то с наскоком получается. Друг на друга вроде как пытаемся наскочить. – Он взглянул деловито и цепко. – Это, по-видимому, от того, что мы уже не дети и прошло много лет, а мы… ну, скорее я сразу захотел воспользоваться именно детскими годами. А вот так сразу не получается. Так?
«Умный, бестия. Знает, почём лихо, не говори, что тихо! Вон как повернул, срезал углы – опытный».
– Так, – ответил я.
Помолчали.
И верно – легче стало. Появилось что-то приятельское. Прежнее. Высказанное вслух замечание личного характера, как бы оголило наши внутренности, и мы, таким вот образом встав друг перед другом во всём своём естестве, стали роднее, ближе. Задышалось свободно. Пропал косой взгляд – нет ожидания прорыва затаённого, недоговорённого слова.
Вот так вот сущая малость, откровенно высказанная, устраняет все шероховатости, а то и связывает всё в один узел да и выбрасывает вон, за порог.
Натянув штаны, я сел в свободное кресло.
– Ну, за встречу через возвращение в родные пенаты? – Он протянул мне стакан.
Мы выпили.
Я взял с блюдца тонкий кусочек сухой колбаски – закусил.
Он распечатал коробку с сигарами. Молча предложил мне. Поднёс серебряную зажигалку, чиркнул – закурили. Дым обволок нас. Мы откинулись на спинки кресел и некоторое время слушали тишину. Клонившееся к горизонту солнце заливало комнату, но в нашем углу таилась тень. Едва слышно шумела вентиляция.
Я долго смотрел на свет, на то, как причудливо растекается дым от сигар в косых лучах солнца, и потому, когда он закашлялся, и я обернулся на звук, я увидел только размытое пятно, а не человека. Оно выпустило струю дыма и произнесло:
– Всё, что тебе нужно по делу, приведшему тебя в забытый край, ты найдёшь здесь, в доме. Те, кто тебе нужен, все бывают у меня. Мне кажется, что тебе надо сразу разрешить все сомнения. Если они есть, конечно. Покончив с делами, тебе останется лишь принять моё гостеприимство – отдаться в мои заботливые руки, окунуться в мою чудесную водицу, испить её. Я о тебе побеспокоюсь не хуже мамочки . моём Фроси
Упоминание об этой даме вызвало у меня небольшую панику. Паника пришла за потрясением, которым я захлебнулся от внезапности, с которой она, Ефросинья, при упоминании о ней, встала передо мной как живая. Вспомнилось всё чётко и точно.
Глава третья
То было время туманов. Они, клубящимися слоями, покрывали землю. Взор был помрачён размытыми очертаниями предметов. Даль была неразличима. Но в столь бедных декорациях разум особо бойко рисовал картины, создавая свой мир, свои перспективы. Которые, увы, были недолговечными. Они оставляли нас очень скоро. Вдруг возникнув, уносились они всё теме же туманами, в которые каждый из нас погружался полностью, без остаточка, так как лет нам было немного – и оттого-то наша память просыпалась в редкие моменты: вынырнув на чистое пространство, подивясь тому, насколько ясным может быть мир, мы снова уходили в туман… и рассудок с натугой поспевал за мало видящими глазами. То была пора детства.
Несмотря на то, что на ту пору мы учились уже в шестом классе, и каждому из нас набежало по двенадцать годков, мы были детьми. Дети. Особенно осознаешь это, когда тебе подваливает к сороковнику – и волос день ото дня становится всё более сед и редок, всё тяжелее просыпаться по утрам и бороться с обрякшим, отёчным лицом, а взбираясь по ступеням до квартиры, задыхаешься и, потея, обволакиваешься неприятным, очень пахучим душком…
Кто-то говорил о Фросе, что она не в своём уме. Кто-то смеялся над ней, но тайком, отвернувшись. Кто-то показывал пальцем и дразнил. Кто-то жалел. А кто-то понимал и помогал.
Она же всех любила и жалела, отдавая то, чего не могла дать своим детям, так как у неё их не было. В своё время она много почертила-покуролесила, потому что надеялась, что хотя бы какой-нибудь мужик сумеет-таки оплодотворить её мёртвое чрево. Не суждено. Не вышло. В свои пятьдесят четыре года она уже не затевала беспутных отношений. Отчаялась. Но не огрубела. Может быть, закрывшись в своём горе, немного поглупела – прикидывалась, будто бы и нет его, горя этого.
Порой вела себя Фрося странно и пугающе, – со своей-то тягой к заботе о чужих детях. Из-за этого никто из мужчин, даже если бы она того хотела, не оставался с нею надолго.
Она всё имеющееся из личного достатка и из собственной души отдавала всякому, кого могла приманить, кто не отталкивал её, не боялся, шёл на контакт, да что там – любому человеческому детёнышу!
Вначале, когда такая блажь стала очевидной и постоянной, многие родители боялись дозволять своим детям общение со странной бабой, в недавнем прошлом, как многие считали, гулящей. Но в скором времени они убедились в безвредности, в безобидности её притязаний на заботу о чужих детях. Тогда люди не просто перестали обращать внимание на её причуду, а стали сами приводить своих отпрысков, чтобы она посидела с ними, присмотрела, и одаривали, благодарили её материальным вспомоществованием за оказанную . Но можно ли подобное назвать таким словом? Её сердце нуждалось в детском смехе, в детском лепете, в ребячьих проказах, в их непослушании. Такое не назовёшь «услугой». Всё шло от сердца, а что приходит от него, то – благость. Она окуналась в радость, она омывалась нежностью, которые видела в детях. услугу
Так и жила Фрося: любя всех детей, благодетельствуя им, прощая насмешки и оскорбления, не видя дурного, неся добро, внимание и заботу всякому, а не только сирому и убогому.
А вот к родителям, имевшим повадку задирать, обижать своих чад, она была строга и даже жестока. Бывало, увидит она, как Степан Анатольевич с четвертого этажа из десятой квартиры гоняет и лупцует почём зря своего Серёжку, так возьмёт подвернувшуюся под руки скалку-палку или бидон из-под молока, а то и сумку с батоном или камень с проезжей дороги – что ни попадя, и давай гонять и молотить проходимца, отчитывая его самыми последними словами так, что только диву даёшься: где же забота о детях, которые всё видят и слышат? А как утихомирится, так берётся, как ни в чём не бывало, за приготовление пирожков да блинчиков с начинкой – и дух стряпни доносится из распахнутого окна её квартиры на первом этаже, и слышится тихая песенка, которую она напевает будто бы спящему в колыбели, что стоит рядом с ней, ребёночку – Васятке, как она часто мечтала на людях.
Тогда была весна, и густо насажанные деревья с кустами укрывали двор яркой нежной зеленью. Воздух был чист и свеж. Птахи заливчаты. Гомонили детские голоса.
Был 1987 год. Была весна. Только-только отшествовал Первомай, и народ притих в ожидании Дня Победы.
Четвёртого мая я был приглашён на сражение – на каменное побоище! Столь грандиозное событие должно было состояться на территории заброшенного двухэтажного большого здания из красного кирпича. Крыши у него не было – от неё осталось только несколько железных балок, возле которых, на кирпичных стенах, и на бетонных плитах пола бывшего чердака ютились небольшие деревца. Что было в здании когда-то, я не знал. Но это было не важно. Главное – это то, что можно было исследовать доныне неведомую территорию! Вскорости я узнал, что все называют здание «фабрикой», и говорили, что возвели её аж до самой Октябрьской Революции.
Я не ведал, что мы станем делать на самом деле. Почему-то цель нашего визита в этот мёртвый, забытый мирок, казалась мне сомнительной. Кому я стану мстить, давая бой камнями? За какие такие проступки, зачем? Мне никто ничего худого не делал! Но меня пригласили… и я пришёл. Правда, пригласили для количества… так что от меня требовалось всего лишь не отставать и во всём подражать.
Но, опасаясь быть застигнутым врасплох в столь диковинном месте, я осмелился попросить у товарищей объяснений. И мне снова поведали о том, что в прошлый раз ребята столкнулись в здании с некими пацанами, и те внезапно объявили им войну! Потом всё-таки добавили, сознаваясь, что после непродолжительной схватки они, мои товарищи, бежали. И вот теперь они возвратились за возмездием, чтобы тех, кто достиг величия победителей, низвергнуть к своим ногам.
Мы были обязаны одержать верх над неприятелем!
Мы – это Мишка Чекалкин, Сашка Меркунов, Димка Родимов, я и ещё неизвестный пацан облезлой наружности, который был старше нас года на два, знакомый Сашки.
Мишка, исполняя роль разведчика, проверил территорию, и никого не обнаружил. Тогда он перевоплотился в дозорного и смело встал в огромном оконном проёме – всё одно, что древнеримский воин на развалинах Карфагена.
Мы проникли в полумрак фабрики как можно бесшумнее.
Осыпавшаяся штукатурка, побитые кирпичи, жестяные банки, стеклянные бутылки, бумага, покорёженные железки – груды мусора встретили нас. Мы пробрались по широкой лестнице без перил на второй этаж. Наверху было всё то же самое – разруха. Только не было ни одного деревца, просунувшего в окна ветви, в отличии от первого этажа.
Мишка ударил ногой по бутылке из-под хереса – брякая и звеня, увлекая за собой пылевые вихри, она понеслась, подскакивая, вниз по лестнице. Этот вдруг возникший резкий звук неприятно резанул по ушам. Я испугался его внезапности и привлечения им внимания затаившегося – или уже крадущегося? – противника, а так же неодобрения со стороны Сашки и его друга, так как они почитались за главных. Но они ушли далеко вперёд, и ничего не слышали или просто не хотели снисходить до всяких пустяков.
Мы столпились перед обширным свободным пространством – зала, и в ней натыкано шесть частично порушенных квадратных столбов-опор. Зала была в центре второго этажа. В ней было настолько ослепительно светло, что я на какое-то время потерял из виду товарищей: они, пройдя вперёд, растворились в пылающем мареве.
Пока я осваивался в плохо различимой новой обстановке и аккуратно делал первый шаг, ребята успели дойти до окон, и, свешиваясь в пустоту, кому-то что-то кричали. По-видимому, они нашли своих противников, бывших обидчиков, среди густых теней обильных зарослей внизу.
Что-то пролетело и гулко ударилось в один из столбов. Поднялась пыль. Вялым облачком, играясь в лучах солнца, она поплыла по воздуху.
Ребята кинулись врассыпную.
Мишка Чекалкин остался на месте. Он лишь присел. Ему под руку тут же подвернулся камень. Он схватил его, смело выпрямился и швырнул его, ослеплённый солнцем, клонящимся к горизонту.
Димка Родимов, укрытый простенком между окнами, стоял рядом с ним. Он периодически высовывался в окно, тщательно прицеливался – при этом у него из перекошенного рта высовывался кончик языка – и с наслаждением запускал камень за камнем в увиденного или угаданного злодея.
Сашка Меркунов, отбежав назад, спрятался за одним из столбов. Его старший товарищ оказался за соседним столбом. Они усердно собирали камни, рассеянные вокруг, и подкидывали их бойцам на передней линии.
Солнце врывалось в пустые окна. Оно грело наши лица. Радостный весенний мир лизали длинные тени.
Один за другим прилетали камни. Они ударялись о найденное препятствие и рассыпались кучей брызг – воздух всё больше насыщался пылью, отчего першило в горле, хотелось чихать, слезились и часто моргали глаза.
– Быстрее давай ещё! – орал, захлёбываясь слюной, Мишка Чекалкин. – Не дай ему высунуться. Не дай! А то он нас завалит!
– Нате, держите, ха-а! – подхватывал Димка.
– Проклятый ихтин-завр, – неслось по заброшенному зданию из красного кирпича.
Я прошёл вдоль стены и выглянул в окно, и увидел невысокое маленькое строение, где в будущем разместится часовня. Оно, лишённое крыши, даже не доходило до нашего второго этажа. Там мелькали головы. На всякий случай я подался назад.
Я долго путался в неясных и противоречивых мыслях: «Куда лучше идти, к окну или за столб? Но от столбов не видно неприятеля. А у окон слишком опасно. Правда ли, необходимо рисковать собой и ребятами, что находятся по другую сторону стены? Хочу ли я кому-то причинить ущерб, готов ли я сам пострадать? Насколько всё серьёзно, важно?»
Мне хотелось крикнуть: «За что сражаемся, ребята?»
Пока я терзался в сомнениях, всё, вдруг, прекратилось.
В один миг, как по команде, всё стало, как прежде. А главное – это тишина. Она была первой. Мироощущения как бы плюхнулись на прежнее место – и всё покатилось, как всегда.
Кто-то из ребят стоял, кто-то сидел, но каждый был растерян: что делать, высовываться, кидать, метать или идти прогулочным шагом, чтобы созерцать поле боя? Торжествовать!
Некоторое время Мишка, высунув голову, внимательно изучал лежащее перед ним пространство.
– Кажись, ушли, – сообщил он и выпрямился.
Была весна, был май, всё ещё существовала Коммунистическая Партия Советского Союза, Перестройка делала уверенные шаги, а мы были детьми – мы шествовали в тумане.
Я так и не разобрался в произошедшем.
Сначала – всё было таинственно.
Потом – шумно и опасно.
И вот – тишина.
Говори, как хочешь, ходи, как и где вздумаешь – делай, что хочешь. Не надо таиться, не надо прятаться и уклоняться, кидать, кричать, суетиться.
Я вплыл в середину залы.
А ребята уже снова перекинулись через подоконники. Они осматривали местность. Те, кто был на переднем краю сражения, между делом рассказывали группе прикрытия о бывшей дислокации противника.
– Ушли… Трусы! – в сердцах выкрикнул Димка. Он подхватил с пола здоровенный кусок кирпича и со всей мочи швырнул его в глубину помещения. Кирпич вязко шмякнулся о верх противоположной стены и внушительная часть кладки обрушилась.
Все ахнули и невольно присели.
Солнце горячим апельсином висело в середине окна, нагревая наши спины.
– Вот это да-ааа, – протянул Сашка. – Ты видел? Как это у тебя вышло?
Он посмотрел на перепуганного Димку.
– Просто кинул булыжник, – ответил тот и пожал плечами, мол, непонятно как-то, я не виноват. И предложил: – Давайте отсюда убираться.
Мы пошли к лестнице, жикая ногами россыпи камней. Только Жоржик, знакомый Сашки, приблизился к обвалившейся части стены.
– Ух ты! – вырвалось у него, и это нас остановило.
Мы, конечно же, не оставили его в одиночестве. Он был поделиться восторгом. На то мы и мальчишки! Любопытство и мечта о лидерстве – вот, что заставляет нас находиться в постоянном движении. обязан
От того, что лежало среди кирпича, штукатурки и деревяшек, у нас заблестели глаза. Алчность поглотила каждого. Опустившись на колени перед кучей вновь прибывшего мусора, мы стали обогащаться!
Глава четвёртая
Их было много. Красненькие, синенькие и зелёненькие. Десяти-, пяти- и трёхрублёвки. Сотенные и даже пятисотки. Это были деньги. Бумажные. Старинные. Невиданные. Неведанные. Таинственные. Отчего были они для нас ещё привлекательнее.
Хотя мы понимали, что теперь такая «монета» не котируется, – ан всё-таки деньги, и – наши! Мы – обогащались. Мы хватали разноцветные бумажки – кто сколько успеет. Никто из нас никогда не владел сразу столь внушительным богатством.
– Это, наверное, клад, замурованный местным капиталистом, – предложил разрешение загадки Мишка. – Хозяином, которому принадлежала эта халупа.
Мы переглянулись.
– Тогда здесь могут быть драгоценности, – развивал гипотезу Димка. – Ну, камни там разные дорогие, золото, украшения.
Нас пробрала дрожь. Нас затрясло – так, наверное, проявляла себя «золотая лихорадка», которой были подвержены американцы во времена Дикого Запада, – а оравы индейцев сновали вокруг, мельтеша перьями на смоляных головах за ближайшими сопками и потрясая луками, улюлюкая.
Ух-ты!
Мы только что отбили атаку точно таких же аборигенов. И теперь мы, нервно озираясь, готовясь к подлому нападению со спины, могли урвать от их плодородной нехристианской земли кусок неплохой жирности! Если бы мы были кровожадны, то мы польстились бы и на их скальпы, за которые выручили бы по доллару за штуку – лишняя монета всегда придётся кстати. Хотя! Доллар – это не наша денежка!
Перед нами лежали кредитные билеты Царской России.
От них веяло историей. Временем, когда мы от рождения не имели свободы. Когда мы целиком принадлежали своему барину, зависели от него – день-деньской, не разгибая спины, пополняли его закрома, и без того туго набитые, а сами пухли животами от дрянной и малой пищи! М-да… восторг!
Никто из нас нисколько не сомневался в том, что мы равны между собой по происхождению. Мы – дети крестьян и рабочих. Мы можем друг друга рвать зубами, но, если понадобится пойти против ненавистных капиталистов, мы забудем внутриусобные распри, мы объединимся в одну отчаянную ватагу или в оплот социалистического лагеря – мы пойдём, не щадя ни себя, ни врага, все вместе, выступим единым фронтом! Дрожи, трепещи толстопузый буржуй, потомки Мальчиша-Кибальчиша не позволят тебе спокойно жиреть на горестях и несчастиях простого народа! – вот наш лозунг. Красные будёновки украшали наши маленькие головы, когда мы, дружно маршируя, выбивали пыль из щелей спортивного зала на очередном конкурсе «Лучший боевой отряд школы», а потом – отряд района. И уже самые лучшие и отважные из нас, непримиримые и упорные, удостаивались чести участвовать в областном, а то и… даже страшно подумать… областном смотрах. меж
Да, мы – будёновцы, мы идём в бой, и Красная Армия, что всех сильней, победит любого узурпатора! Не зря пали наши деды, мы – достойная им смена!
Мы, рассовав по карманам ассигнации, принялись рыться в груде мусора, созданного упавшей частью стены. Каждый из нас желал первым наткнуться дрожавшими пальчиками на заветную шкатулку или на сундучок, а то, может, на худой конец, на ржавую банку, внутри которой будут сверкать кулоны и медальоны, усыпанные драгоценными камнями, блистать золотые и серебряные монеты и слитки. И тот, кто окажется первым, тот, однажды вцепившись в заветный предмет, сделает всё от него зависящее, чтобы не выпустить его из рук! А если станет неминуем делёж, то он поспешит воспользоваться силой и прибегнет ко всем доступным правдам и неправдам, чтобы взять себе лучшее и большее!
О, да! И это будут не кулоны, а монеты самых разнообразных чеканок: и дублоны, и луидоры, и гинеи, и пиастры. «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» – повторял, пока не выбивался из сил, зелёный попугай, носивший имя кровожадного пирата – Капитан Флинт. И мы уже будем свирепыми, в шрамах и рубцах, грязными и подлыми пиратами, – может даже с повязкой на глазу, а иной заскачет на одной ноге. Будем размахивать тяжёлыми саблями и грозить пистолетами, как Долговязый Джон Сильвер, ходивший под командованием угрюмого, вечно всем недовольного капитана «Испаньолы» Смоллетта, который разыскивал сокровища, зарытые грозным старым пиратом Флинтом. Будем жаждать испить рому, скверно ругаться и дымить вонючим табаком из длинных трубок!..
Тени сгущались. Пришли сумерки, а мы всё рылись у холодной стены, которая, в нашем усердии отыскать что-то большее, чем красивые, важные, но всего лишь памятные бумажки, была дополнительно разрушена настолько, насколько хватило наших сил и достало умения с возможностями.
Первым сдался Жоржик.
– Баста, с меня хватит, – сказал он. – Сашок, я пошёл. – Сашок копался как трудяга муравей. – Ты что, остаёшься? Давай, пошли! – не сказал, а приказал Жоржик.
И Сашок подчинился – оторвался от своего занятия. Выпрямился. Было заметно, что он ужасно сожалеет о своём уходе. Попрощался:
– Пока. Мы пошли? – Ему хотелось, чтобы с ними пошли и мы.
Сашок с ленцой отряхнулся и поплёлся за старшим товарищем. Ещё раз оглянулся – его лицо было сжато в тоскливой гримасе… и канул в черноту лестничного проёма.
Мы ничего не замечали. Мы копошились и рылись!
Прошло десять минут… ещё пять…
Становилось всё темнее…
Мы приостановили поиски. Мы надеялись возобновить их завтра. Правда, была опасность, что в наше отсутствие кто-нибудь нагрянет. Да хотя бы тот же Жоржик. Но, как бы нам ни было тягостно покидать многообещающее место, так неожиданно нами открытое, – по чистой случайности – в этом мы не сомневались, – надо было уходить: уж слишком неуютно стало в заброшенном здании, к тому же, чем позже мы придём домой, тем больше нам достанется от родителей.
Мы ушли. Мы покинули место искушения обогащением.
В темноте, серыми, безликими мышками мы добрались до нашего пятиэтажного дома, и в подъезде стало видно, насколь мы грязные, словно разъярённый трубочист освобождал дымоходы от шлака не своей корщёткой, а нами. И мы вспомнили о бабе Фросе – она поможет, она придаст нам человеческий вид! К тому же у меня была сильно содрана кожа на руке и немного на лице – это я, ослеплённый надеждой отыскать «священный сосуд», настолько усердно долбил стену, что из-под самого потолка на меня рухнула кладка. Тогда, в пылу охватившей меня жажды наживы, травма показалась пустяковой, а теперь заставила обеспокоиться, потому что была слишком грязной и всё ещё саднила.
Мы с Мишкой жили в одном подъезде, в среднем, а Фросина квартирка была на углу дома, по правую руку. Нам нужно было подойти к дому сзади, чтобы очутиться под окном первого этажа, где в безрадостном одиночестве обитала Фрося, – непременно, как и в большинство вечеров, она сидит в ярком пятне жёлтого света и что-нибудь вяжет. Она вечно вязала то шарфик, то носочки, то тюбетейку или шапку, варежки, а то и кофточку, и всё раздавала или тому, кого приметила заранее, или любому, кому её рукоделие окажется впору, ну и тому, конечно, кто не откажется, не побрезгует взять.
Земля была влажной. Жирно, маслянисто пахли распускающиеся листья и набухающие первые цветы.
Мы встали в свете окна, и Фрося нас увидела. Её тусклые глаза распахнулись от возмущения тем состоянием, в котором мы прибывали, но не ожили.
– Мальчики, разве так можно? – поинтересовалась она. – Уже поздно, надо быть дома. Мамы и папы волнуются. Они с ног сбились, разыскивая вас. А вы, вдобавок ко всему, приходите вон в каком чудовищном виде. Замарашки, грязнули-грязнопупые. – Она не говорила, а нашёптывала. В её голосе не было гнева. Фрося была сама доброта. – Ну, давайте, давайте, живенько забегайте. Вас надо привести в божеский вид, а то придётся несладенько – достанется вам.