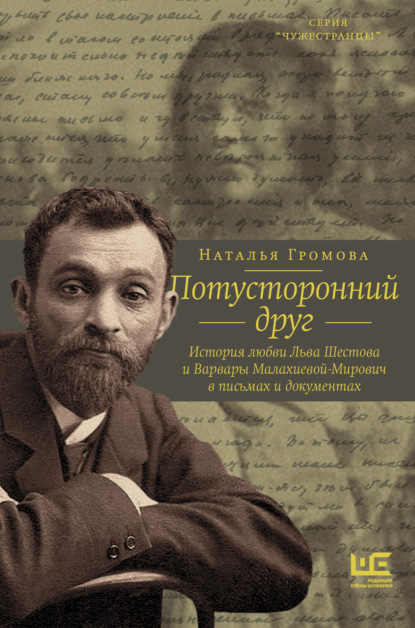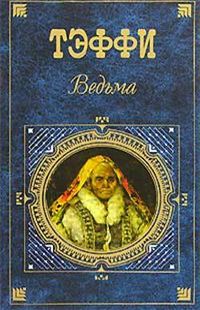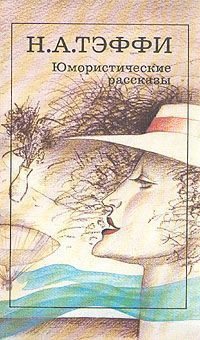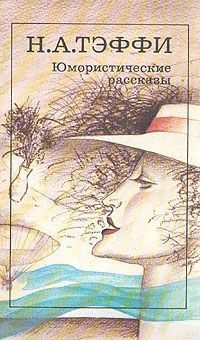Полная версия
Кусочек жизни
Будем его дружно подгонять, этого двадцать седьмого, чтобы не очень задумывался.
Святочные советы
Приметы, гадания и толкования снов
1Сны под Новый год, как старого, так и нового стиля, имеют большое значение и влияние на судьбу увидавшего их, а также и окружающих его родных, друзей и знакомых. Сны под Крещение тоже не лишены вышеупомянутых качеств.
В наше время, когда порядочный человек под Новый год спать не ложится, а “Крещенский вечерок” продолжается у него до первого метро, сон под эти праздники увидеть ему, конечно, трудно. Но мистически настроенная личность всегда сумеет всхрапнуть под сурдинку на любом концерте и даже балу.
Есть люди, которым еще дороги традиции нашей седой старины.
Итак, если вам удастся смежить усталые вежды ваши, обратите внимание на сновидение, которое не замедлит осенить вашу душу.
Я не смогу дать вам здесь подробный толковник, но главнейшие сны отмечу.
Если приснится вам толченая дресва или гречишная лузга с толокном, то это к перемене начальства.
Если приснится, что кит свистит вам в ухо, – придется есть блины.
Перепела щипать – к продаже овсов.
Доите во сне кошку – танцевать с приятелями.
Воровать вожжи – к встрече с солидным лицом.
Если во сне мыть крысу – к продолжению старого романа.
Если, наоборот, что крыса тебя моет, – к свиданию с родственником.
Есть муравьев – к хорошей погоде.
Петь в голом виде – к грязи.
Склоняться во сне перед курицей – крупные выгоды.
Целовать с распаленной страстью своего начальника – неудачная покупка.
Таковы предусмотренные нами главнейшие предпраздничные сны.
Теперь перейдем к приметам.
2Немалую роль играют и святочные приметы.
Так, если в ночь под Новый год выпьете, либо даже, прямо скажем, – напьетесь, то это будет означать, что в жизни вашей особых перемен не произойдет.
Если придется закусывать кренделями, то это означает предстоящее вам ухаживание за дамами.
Ежели под Новый год займет у вас кто-нибудь деньги, то это означает, что деньги эти он вам не отдаст.
Ежели вы у кого-нибудь займете под Новый год, то это будет означать, что человек этот будет весь год к вам приставать.
Ежели под Новый год встретите вы человека, который от шампанского воздерживается, то примета эта означает, что у него нет денег.
Если вы под Новый год сами налижетесь и, кроме того, всех кругом будете угощать и музыкантов напоите и всех к себе гостить пригласите, то означает эта примета, что быть вам без денег.
Ежели явитесь под Новый год в семейный дом и полезете с хозяйкой христосоваться, то значит это, что знакомства с вами поддерживать не будут.
Ежели, поужинав на общественном балу, попытаетесь уйти, не заплатив, то примета эта указывает на большой скандал.
Ежели под Новый год намажете девицу горчицей и заставите ее петь басом – получите перемену в семейном положении.
3Изложив главнейшие приметы, перейдем к гаданиям.
Перечислим старые, традиционные, поскольку сохранились в памяти.
Запусти таракана кому-нибудь в ухо и слушай, что сей человек станет говорить. То и сбудется.
Поймай на улице четырех козлов, поставь головами в разные стороны. Когда побегут – следи, какой впереди всех – в той стороне твое счастье.
Выйди в полночь на гору покруче да поглуше (Монмартр) и слушай, в какой стороне волки воют – там твой враг живет.
Поставь на ночь под кровать лохань с водой и пусти в нее утку плавать. Что приснится, примечай – то и сбудется.
Обстриги шерсть с семи черных кошек, спряди ее как кудель, сотки из нее рубаху и иди на перекресток. Как увидишь встречного, сейчас на него рубаху эту надень и слушай. Ежели он веселую песню запоет – это к свадьбе. Если панихиду – это к беде. Если плясать начнет с прибаутками – это к большой удаче. Ежели начнет тебя колотить – к неприятности.
Таковы главнейшие гадания, пережиток седой старины, до сих пор с успехом выполняемые мистически настроенными личностями, желающими проникнуть в мир чудесного и приподнять бестрепетной рукой завесу будущего.
Из фиолетовой тетради (II)
…Странно мы относимся к словам ближнего своего. И никому в голову не приходит, что, в сущности, так относиться нельзя, что пора, наконец, пересмотреть этот вопрос и в корне изменить.
Вот вы встречаете у входа в метро малознакомого вам человека. Человек этот приостанавливается и приветливо, но, конечно, с горячим любопытством спрашивает:
– Как ваше здоровье?
И что же получает он в ответ? Короткое, идиотское “мерси”. Причем тут мерси? Неужели трудно удовлетворить желание этого милого человека и рассказать ему то, что ему так хочется знать? Отвести его немножко в сторону и начать задушевно и просто:
– В детстве, мол, хворала я часто желудком, потом, очевидно, под влиянием здорового режима деревенской жизни, организм мой окреп. В тысяча девятьсот первом году перенесенный мною тиф оставил следующие осложнения: во-первых, что касается кишечника…
Если молодой человек вырвется от вас и вскочит в свое метро, вы не должны, воспользовавшись тем, что он торопится, считать свою задачу по отношению к нему выполненной. Вы должны разузнать его адрес и написать ему все подробно или же постараться созвониться с ним по телефону и изложить устно.
Что касается меня – я верю людям. Если у меня спрашивают: “Что вы поделываете?” – я никогда не позволяю себе отделаться какой-нибудь оскорбительной ерундой, вроде: “Да ничего, помаленьку”.
Ну какое представление может человек получить о моем времяпрепровождении от “помаленьку”! Ведь форменный вздор. Если он хочет знать, как я поживаю, я ему это и сообщу. Подробно, толково – скрывать мне нечего.
…
– Сегодня утром зашивала дырку на чулке. Потом искала левую перчатку. Перчатки не нашла, но нашла шоколадину. Конечно, съела. Потом прачка принесла белье. Двух платков не хватало. Я ей говорю: “Пуркуа”? Потом разбила стакан…[55]
Уверяю вас, что любой человек сможет вполне удовлетворить самое голодное свое любопытство, если прослушает описание моего утра. Надо быть внимательным к потребностям ближнего своего. Раз спрашивает – верьте, что ему это нужно знать.
Я верю. Я вообще верю ближнему своему. Порою это очень тяжело, но я верю.
Получила на днях письмо: “Дорогой друг, мы в страшном отчаянии, что не можем быть у вас в пятницу, так как в четверг уезжаем на юг”.
Как меня это расстроило! Не то, что они не придут. Это-то пустяки, я-то без них обойдусь. А вот их жалко. Люди в полном отчаянии. И какой тут юг спасет, когда нет спокойствия и на душе тяжелый мрак. Синее небо, сверкающее море, ликование весенней природы, веселая нарядная толпа – все это только раздражает, на этом радостном фоне только выпуклее выступит тоска и душевное угнетение. Им бы легче было, если бы они уединились куда-нибудь в дикие скалы, где плачут чайки и глухо рокочет прибой. И нет около них преданного человека, который научил бы их, как избыть, как изжить горе, и удержал бы их от малодушного и рокового шага, когда на вершине скалы или у обрыва над бездной мелькнет у них мысль: “А что, если… одно движение и…”
Как все это тяжело! Милые, бедные… Как я за них боюсь!
А вот недавно – казалось бы, пустяк, а вместе с тем…
Поручили мне предложить одному банкиру билет на благотворительный вечер. Банкир спросил, сколько стоит, но я еще не успела ответить, как он воскликнул:
– Ого! как дорого!
Потом сказал:
– Я подумаю и потом вам сообщу мое решение по телефону.
– Да у меня нет телефона.
– Так я напишу.
– А вы знаете мой адрес?
– Ну, это уже пустяки. Я разыщу общих знакомых и от них и узнаю – очень просто. Словом – я подумаю.
Какой милый! Сколько берет на себя.
И вот каждый вечер, как только останусь одна – рисуется мне картина: пышно убранный стол. Нарядные люди пируют. Гремит музыка. И среди них один не поддается общему веселью. Он бледен, рассеян. Видно, что неотвязная мысль не дает ему покоя. Это он – мой банкир.
– Еще телятины, – предлагает ему кокетливая хозяйка дома.
Он даже не слышит. Как далеки от него всякая телятина, всякий разгул и наслаждение жизнью. В ответ он молча сжимает виски и прикладывает салфетку ко лбу.
– Миша, – шепчет ему жена, – ты утираешься шарфом мадам Гуртовник, что с тобой?
– Молчи, я думаю… Я обещал подумать о билете, и я думаю…
А кругом декольте и шампанское.
И вот вижу я другой вечер.
Уютный домашний очаг. Банкир с семьей сидит у камина. Тут же в роскошном сервизе дымятся кофе, чай, шоколад и какао. Беспечно резвятся дети. Преданно улыбается жена. Но банкир угрюм. Машинально окунает он свой палец в чужую чашку и отряхает пепел сигары в вазу с вареньем.
– Отошли детей, – говорит он жене. – Мы должны наконец решить.
Детей уводят.
– Я все понимаю, – говорит жена. – Как быть? Покупать билет или нет? Какую цену назначила эта дурища?
– Двадцать франков. Как быть? Думаю уже три недели. Время идет! Время бежит!
– Откажемся от поездки в Ниццу и купим билет.
– А твои бедные нервы, которые так хорошо отдохнули бы под южным солнцем? Уж лучше продать имение.
– А наша любовь, которая окрепла бы на почве собственных лугов? Может быть, можно уплатить ей векселями?
– Ты рассуждаешь как женщина, что ты понимаешь в банковских операциях?
– Миша, подожди, может быть, какая-нибудь неожиданность спасет нас. Может быть, она успеет за это время умереть. Скоропостижно. Я не желаю ей больших страданий – пусть скоропостижно.
– Увы! – вздыхает мой банкир, – у нее вид был очень крепкий. Она при мне съела четыре пирожка и еще говорила: “У меня сегодня что-то нет аппетита”. Нет, на это рассчитывать нельзя.
– Миша! Да ты, наконец, можешь отказаться от билета.
– Эта мысль уже приходила мне в голову, но… это же нельзя решить так сразу. Надо как следует обдумать, взвесить.
– Ты погубишь свое здоровье! – отчаянным воплем вырывается из груди жены давно терзавшая ее мысль.
Он горько усмехается.
– Жизнь, дорогая моя, не соткана из одних беззаботных радостей. Иди, малютка, смежи свои вежды, а я буду думать до утра. Иди и прикажи подбросить дров в камин – меня давно знобит…
Она думает. Я, подлое беспечное существо, погашу сейчас лампу и буду спать – а он… Я плачу – это правда, но что стоят мои скупые слезинки в сравнении с его страданиями!
И зачем я это сделала?
Я даже поделиться ни с кем не могу моими душевными терзаниями. Я окружена поверхностными, легкомысленными людьми. Они скажут:
– Ха-ха! Да он ответил, что подумает, просто, чтобы от вас отвязаться, а вы-то распустили сантименты.
Как я могу допустить такую грубую мысль? Поверить такому вздору? Такой клевете?
Я знаю, что он, мой банкир – думает. А я – я за него страдаю. Каждому свой крест.
В душе звенят слова романса: “…тебя обнять и плакать над тобой!”.
Время! Время! Прибавь ходу! Беги скорей! Ибо тают силы!..
Потустороннее
Были вчера вечером у Ложкиных. Договорились до таких страстей, что потом жутко было в метро лезть. И то правда, как подумаешь, – под землю в полночь! Это в Париже все как-то незаметно выходит, потому что по-французски, а если бы устроить метро где-нибудь в Тиму или Малоархангельске, так уж наверное в нем завелись бы покойники.
Мы, русские, вообще народ мистически настроенный, но в частности мадам Ложкина превзошла всякую меру. Сама позовет в гости, а придешь, она ноздри раздует, глаза закатит:
– У меня, – говорит, – было предчувствие, что вы ко мне сегодня придете.
Муж у нее человек грубоватый.
– Сама же, – говорит, – позвала, чего же тут чувствовать-то?
У женщин вообще, я считаю, натура тоньше. И действительно, в мадам Ложкиной этой самой мистики ужасно много. Вчера рассказывала удивительные случаи.
– У меня, – говорит, – необычайная сила внушения на расстоянии. Сколько раз проверяла. У мужа, знаете, преотвратительная память: что ни поручить – все забудет. А я очень люблю пряники, и всегда его прошу купить к чаю. И вот иногда перед чаем начинаю ему мысленно внушать: “Не забудь пряники, не забудь пряники”. И представьте себе, ведь иногда покупает.
Это, действительно, поразительно – такая сила!
Олечка Бакина, оказывается, тоже не без силы. Была она влюблена в одного актера и каждый вечер внушала ему: “Встань, выйди из дому и иди ко мне”. И он, говорит, действительно всегда вставал и шел. Прямо удивительно.
Шел он, положим, не к Олечке, а к Марье Михайловне, но все-таки половину внушения исполнял, то есть вставал и из дому выходил. Ну разве это не чудо?
Прямо завидно! Почему у меня никакой такой силы нет?
От разговора о внушении перешли к спиритизму и загробной жизни. Был в нашей компании как раз один специалист по спиритизму. Рассказывал массу интересного. У него у самого такая медиумическая сила, что стоит ему за стол сесть, как моментально дух тут как тут. Специалист, конечно, сначала спрашивает:
– Дух, если ты здесь, стукни один раз. Если тебя нет, стукни два раза.
И представьте, тот моментально все честно отстукивает.
– Ну, а спрашивали вы у них, у духов-то, о загробной жизни?
– Не успевал-с. Потому что они меня сразу начинали колотить твердыми предметами по темени. При этом как-то неудобно предлагать вопросы. Одно могу вывести, что, вероятно, у них там характеры очень портятся. Потому что такие злющие являются, что иногда прямо даже неудобно. Очень уж ругаются. И что удивительнее всего – всегда по-русски. Видно, там получают возможность владеть всеми языками. Явилась раз душа Офелии. Ну и душа! И откуда она такие выражения подцепила – видно, Гамлет научил. Н-да, грубоватые они все там делаются, быт, видно, такой простецкий.
– Вот бы узнать, как у них там!
А мадам Ложкина говорит:
– А вдруг у них там тоже гостиная, столовая, передняя, спальня и кабинет. И тоже в гости ходят, и изволь им печенье покупать.
Последнее замечание было, по-моему, нетактично, так как мы же у нее в гостях сидели.
А Олечка подхватила:
– А одеваются, может быть, моднее нашего.
– А чем же, – говорю, – эту грубость разговора объяснить?
Спирит выразил мнение, что это, вероятно, сказывается влияние среды. Что на том свете люди объединяются не по признаку хороших манер, а по своим духовным качествам. Может быть, душа какой-нибудь добродетельной девицы из высшего общества в течение многих веков находится в компании раскаявшихся разбойников с большой дороги. Может быть, души-то их и очень высоки в духовной оценке, а все-таки то, что называется на языке эстетов “финтифлю”, у них, конечно, отсутствует. И общаются они между собою по-простецки. Ну вот, девицына душа и впитывает в себя эти простецкие эманации, и если заглянет случайно на спиритический сеанс, то, конечно, и выявляется в словесной форме разбойничьего тона.
А мадам Ложкина нашла, что это было бы несправедливо, если бы так перемешивали людей различных кругов общества. Конечно, в смысле манер, если какой-нибудь праведник ел рыбу ножом, – это неважно, потому что на том свете ни рыбы, ни ножа нет, но сама душа у человека благовоспитанного должна очень шокироваться и страдать от близости праведника дурного тона.
А Олечка стала протестовать в том смысле, что это только в светской жизни важна бонтонность, а, например, у нас при большевиках случалось, что и бывшие фрейлины водили компанию с бывшими прачками и прямо жили душа в душу.
Тут опять хозяйка ввязалась в разговор.
– Так ведь это, – говорит, – при большевиках, так сказать, в аду, а мы говорим про райское народонаселение и социальный строй блаженства. А какое же блаженство при наличности таких дефектов?
Потом разговор потек по своему руслу дальше, в дебри, и сам Ложкин высказал удивительнейшую мысль:
– Не замечали ли вы, – сказал он, – как часто то, что считалось предрассудком и заблуждением темного разума, неожиданно освещается наукой и признается ею за правильное и достоверное? Вот, например, лечили деревенские старухи рожу тем, что очерчивали воспаленное место мелом. Люди интеллигентные, конечно, издевались над бабьей ерундой, а затем бактериолог какой-то взял да и разъяснил, что бабы-то очень правильно дело-то разумели, что бациллы рожи не могут переходить через меловое препятствие, так как мел, по природе своей, им неблагоприятен. И многое, что казалось пустяком и над чем смеялись, оказалось правильным. Так вот иногда приходит мне в голову: а ну как земля-то вовсе не шар, а блин, и держится она на трех китах, а внизу ад, и черти на сковородках грешников жарят? Подумайте только, какой конфуз для образованного человека, который всю жизнь губы кривил по всем правилам скепсиса и анализа, и умер, “погружаясь в великое Ничто”, и вдруг – пожалуйте-с сковородку лизать, и самый настоящий черт зеленого цвета, изрыгая хулу и серный дух, будет ему подкладывать угольков под пятки. Вот уж это действительно был бы настоящий ад! А срам-то какой для человеческой гордыни! Вот тебе и скепсис, вот тебе и наука! И все эти Галилеи и Коперники – все по сковородкам рассажены и жарятся за распространение ложных слухов.
Тут уж и я ввязалась в разговор.
– Это, – говорю, – действительно, очень страшно – то, что вы рассказываете. Но есть во всем этом нечто утешительное, что делает этот наивный ад местом не столь уж отвратительным. А именно то, что в аду этом предполагается для каждого грешника особая сковорода. Я одобряю это не в смысле комфорта или гигиены, а имея в виду, что при этом для них недопустимо взаимное общение. Хотя, с точки зрения грешника, это, может быть, большой дефект и сущая мука.
– Темно говорите, не понимаю, – прервал меня хозяин.
– А я это в том смысле, что лишены они возможности друг другу гадости делать. Тяжело ведь это, а?
Все опустили головы и замолчали.
Страшны, страшны муки адовы!
Сладка земная жизнь!
Гурон
Когда Серго приходил из лицея, Линет отдыхала перед спектаклем. Потом уезжала на службу в свой мюзик-холл.
По четвергам и воскресеньям, когда занятий в школе нет, у нее бывали утренники. Так они почти и не виделись.
На грязных стенах их крошечного салончика пришпилены были портреты Линет, все в каких-то перьях, в цветах и париках, все беспокойные и непохожие.
Знакомых у них не было. Иногда заезжал дядюшка, брат Линет. Линет была теткой Серго, но ему, конечно, и в голову не могло прийти величать ее тетушкой. Это было бы так же нелепо, как, например, кузнечика называть бабушкой.
Линет была крошечного роста, чуть побольше одиннадцатилетнего Серго, стриженная, как он. У нее был нежный голосок, каким она напевала песенки на всех языках вселенной, и игрушечные ножки, на которых она приплясывала.
Один раз Серго видел в салончике негра и лакированного господина во фраке.
Лакированный господин громко и звонко дубасил по клавишам их пыльного пианино, а негр ворочал белками с желтым припеком, похожими на крутые яйца, каленные в русской печке. Негр плясал на одном месте и, только изредка разворачивая мясистые губы, обнажал золотой зуб – такой нелепый и развратный в этой темной, звериной пасти – и гнусил короткую непонятно-убедительную фразу, всегда одинаково, всегда ту же.
Линет, стоя спиной к нему, пела своим милым голоском странные слова и вдруг, останавливаясь, с птичьей серьезностью говорила: “Кэу-кэу-кэу”. И голову наклоняла набок.
Вечером Линет сказала:
– Я работала весь день.
“Кэу-кэу” и золотой зуб была работа Линет.
Серго учился старательно. Скоро отделался от русского акцента и всей душой окунулся в славную историю Хлодвигов и Шарлеманей – гордую зарю Франции. Серго любил свою школу и как-то угостил заглянувшего к нему дядюшку свежевызубренной длинной тирадой из учебника. Но дядюшка восторга не выказал и даже приуныл.
– Как они все скоро забывают! – сказал он Линет. – Совсем офранцузились. Надо будет ему хоть русских книг раздобыть. Нельзя же так.
Серго растерялся. Ему было больно, что его не хвалили, а он ведь старался. В школе долго бились с его акцентом и говорили, что хорошо, что он теперь выговаривает как француз, а вот выходит, что это-то и нехорошо. В чем-то он как будто вышел виноват.
Через несколько дней дядя привез три книги.
– Вот тебе русская литература. Я в твоем возрасте увлекался этими книгами. Читай в свободные минуты. Нельзя забывать родину.
Русская литература оказалась Майн-Ридом. Ну что же – дядюшка ведь хотел добра и сделал, как сумел. А для Серго началась новая жизнь.
Линет кашляла, лежала на диване, вытянув свои стрекозиные ножки, и с ужасом смотрела в зеркальце на свой распухший нос.
– Серго, ты читаешь, а сколько тебе лет?
– Одиннадцать.
– Странно. Почему же тетя говорила, что тебе восемь?
– Она давно говорила, еще в Берлине.
Линет презрительно повела подщипанными бровями.
– Так что же из этого?
Серго смутился и замолчал. Ясно, что он сказал глупость, а в чем глупость, понять не мог. Все на свете вообще так сложно. В школе одно, дома другое. В школе – лучшая в мире страна Франция. И так все ясно – действительно лучшая. Дома – надо любить Россию, из которой все убежали. Большие что-то помнят о ней. Линет каталась на коньках, и в имении у них были жеребята, а дядюшка говорил, что только в России были горячие закуски. Серго не знавал ни жеребят, ни закусок, а другого ничего про Россию не слышал, и свою национальную гордость опереть ему было не на что.
“Охотники за черепами”, “Пропавшая сестра”, “Всадник без головы”.
Там все ясное, близкое, родное. Там родное. Сила, храбрость, честность.
“Маниту любит храбрых”.
“Гуроны не могут лгать, бледнолицый брат мой. Гурон умрет за свое слово”.
Вот это настоящая жизнь.
“Плоды хлебного дерева, дополненные сладкими корешками, оказались чудесным завтраком”…
– А что, они сейчас еще есть? – спросил он у Линет.
– Кто “они”?
Серго покраснел до слез. Трудно и стыдно произнести любимое имя.
– Индейцы!
– Ну, конечно, в Америке продаются их карточки. Я видела снимки в “Иллюстрации”.
– Продаются? Значит, можно купить?
– Конечно. Стоит только написать Лили Карнавцевой, и она пришлет сколько угодно.
Серго задохнулся, встал и снова сел. Линет смотрела на него, приоткрыв рот. Такого восторга на человеческом лице она еще никогда не видела.
– Я сегодня же напишу. Очень просто.
Линет столкнулась с ним у подъезда. Какой он на улице маленький со своим рваным портфельчиком.
– Чего тебе?
Он подошел близко и, смущенно глядя вбок, спросил:
– Ответа еще нет?
– Какого ответа? – Линет торопилась в театр.
– Оттуда… Об индейцах.
Линет покраснела.
– Ах, да… Еще рано. Письма идут долго.
– А когда может быть ответ? – с храбростью отчаяния приставал Серго.
– Не раньше как через неделю или через две. Пусти же, мне некогда.
– Две…
Он терпеливо ждал и только через неделю стал вопросительно взглядывать на Линет, а ровно через две вернулся домой раньше обычного и, задыхаясь от волнения, прямо из передней спросил:
– Есть ответ?
Линет не поняла.
– Ответ из Америки получила?
И снова она не поняла.
– Об… индейцах.
Как у него дрожат губы. И опять Линет покраснела.
– Ну, можно ли так приставать? Не побежит же Лили как бешеная за твоими индейцами. Нужно подождать, ведь это же не срочный заказ. Купит и пришлет.
Он снова ждал и только через месяц решился спросить:
– А ответа все еще нет?
На этот раз Линет ужасно рассердилась.
– Отвяжись ты от меня со своими индейцами. Сказала, что напишу, и напишу. А будешь приставать, так нарочно не напишу.
– Так, значит, ты не…
Линет искала карандаш. Карандаши у нее были всякие – для бровей, для губ, для ресниц, для жилок. Для писания карандаша не было.
– Загляну в Сергушкино царство.
Царство было в столовой, на сундуке, покрытом старым пледом. Там лежали рваные книжки, перья, тетради, бережно сложенные в коробочку морские камушки, огрызок сургуча, свинцовая бумажка от шоколада, несколько дробинок, драгоценнейшее сокровище земли – воронье перо, а в центре красовалась новенькая рамка из раковинок. Пустая.
Вся человеческая жизнь Серго была на этом сундуке, теплилась на нем, как огонек в лампадке.
Линет усмехнулась на рамку.
– Это он для своих идиотских индейцев… Какая безвкусица.
Порылась, ища карандаш. Нашла маленький календарь, который разносят почтальоны в подарок на Новый год. Он был весь исчиркан; вычеркивались дни, отмечался радостный срок. А в старой тетрадке, старательно исписанной французскими глаголами, на полях по-русски коряво, “для себя”, шла запись:
“Гуроны великодушны. Отдал Полю Гро итальянскою марку”.