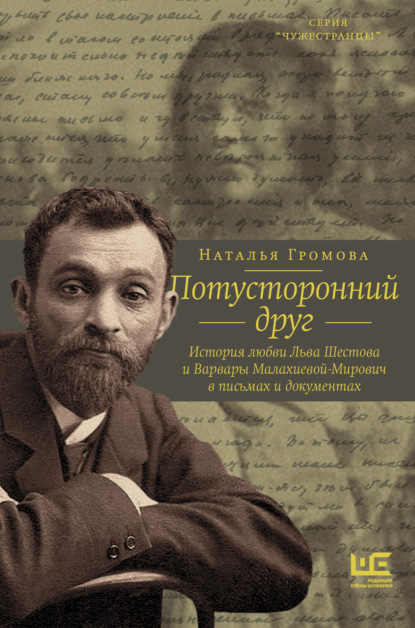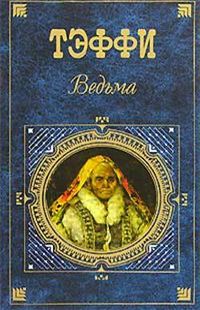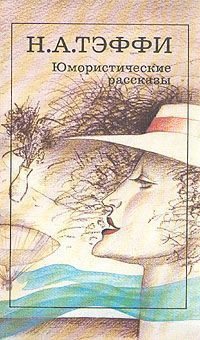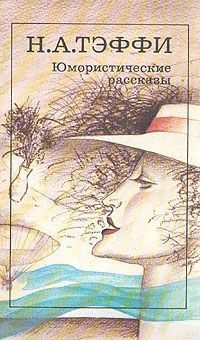Полная версия
Кусочек жизни
Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского “le” для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки “дон”: дон Диего, дон Хозе.
Слышатся разговоры:
– Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.
Деловые люди беседуют:
– Советую вам привлечь к нашему делу вора-Парченку. Очень полезный человек.
– А он не того… не злоупотребляет доверием?
– Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.
– А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?
– Ну нет, этот гораздо ворее.
Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает:
– Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?
И еще больше пугает равнодушный ответ:
– А кто ж его знает – почему да где… Говорят – вор, ну и ладно.
– А вдруг это неправда?
– Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором!
И действительно – почему?

Соединенные взаимным отталкиванием, лерюссы определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и спасающих ее.
Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгуют своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.
Другую картину представляют из себя спасающие: они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.
К “продающим” относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленой ненавистью:
– Слышали, вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.
– Да что вы! Кому?
– Как кому? Чилийцам!
– Что?
– Чилийцам – вот что!
– А на что чилийцам Тамбов дался?
– Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.
– Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?
– Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.
– А разве такое есть?
– Было. Положим, недолго. Один подполковник – не помню фамилии – объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. А все он – вор-Овечкин. А вор-Коробкин – слышали? Тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию.
– А кто же его назначил?
– Никому не известно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать-двадцать, так… по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.
– Да кто же его признает?
– А не все ли равно! Ему, главное, нужно было визу получить – для этого он и уполномочился. Ужас!
– А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят!
– Кем?
– Неизвестно!
– А у кого?
– Тоже неизвестно. Ужас!
– Да откуда же вы это узнали?
– Из радио. Нас обслуживают три радио: советское “Соврадио”, украинское “Украдио” и наше собственное первое европейское – “Переврадио”.
– А Париж как к этому относится?
– Что Париж? Париж, известно, – как собака на Сене. Ему что!
– Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?
– Вряд ли! Сами знаете, еще Тютчев сказал, что “умом Россию не понять”, а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.
– Н-да-м…

– Н-да-м…
Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:
– Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?
Действительно – ке?
Ностальгия
Пыль Москвы на ленте старой шляпыЯ как символ свято берегу…ЛолоВчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
– Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.
Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.
Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.
Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа – душа, обращенная на восток.
Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.
Боялись смерти большевистской – и умерли смертью здесь.
Вот мы – смертью смерть поправшие.
Думаем только о том, что теперьтам. Интересуемся только тем, что приходит оттуда.
А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы…

– Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем.
Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская.
Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя l’herbe, a не наша травка-муравка.[7]
И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.
У нас каждая баба знает – если горе большое и надо попричитать – иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом; словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!
А попробуйте здесь.
– Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau![8]
Переведите русскую душу на французский язык… Что? Веселее стало?
Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:
– Наша речка русская!
Ффью! Вот тебе и Третий Интернационал!
Как тепло!
Ведь, пожалуй, скоро итам сирень зацветет…

У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.
Плавна, самая настоящая – толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.
Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.
Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.
– Asseyez-vous! – подставляет она табуретку.[9]
Нянька не садится.
– Не к чему, ноги еще, слава богу, держат.
Стоит у двери, смотрит строго.
– А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать.
Вот что!
– Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! – любезно отвечает кухарка.[10]
– Вот то-то и оно… Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя… А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак – раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.
– Четыре франка кило, – возражает кухарка.
– Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать – клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!
– Le président de la republique? – удивляется кухарка.[11]
Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.
Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьим снам – все о том же.

Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.
Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.
– Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!
Привыкла к “пределам” человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.
Раненый умирал в страшных мучениях, все возрастающих. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:
– Что же это? Ведь этого жене может быть!
Может.
Воскресенье
Душно… Душно…
Парижане за неделю точно выдышали весь воздух, и на воскресенье его не хватает.
Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно – тут-то и видишь, что воздуха нет.
Магазины заперты. Весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро.
Дышать поехали.
В такси непривычные парочки. Она – в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке – в зависимости от магазина, в котором она служит. Он – в щегольском галстуке и помятом котелке или, наоборот, в помятом галстуке и щегольском котелке – тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием.
В трамваях более солидная публика, знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье – деньги, не расточаемые, а накопляемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочники с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами.
Все едут. Уехали.

В маленькой русской церковке идет богослужение.
Седобородый священник умиленно и торжественно говорит прекрасные слова молитвы: “Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси…”
Господин с тонко выработанным пробором – сколько лысина позволяет – благоговейно склонил голову и шепчет соседу:
– А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?
– Онз сис, Ваграм, – истово крестясь, отвечает сосед.[12]
Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть, уже убитых, о православной церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами…
– Интересно знать, – молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашенная в рыжее, даме, крашенной в черное, – настоящие у нее серьги или нет.
– А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.
На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие… духом и толкуют про свои дела.
– Сговорились встретиться здесь с Николай Иванычем, и вот уже полчаса жду.
– А может быть, он внутрь прошел?
– Ну! Чего ради!
– О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними…
– Кабаре открывать собираются.
– Не кабаре, а банк.
– Не банк, а столовую.
– Кооператив с танцами.

Надо дышать.
Пойдем в “Jardin des Plantes”.[13]
Душный ветер гонит сорную пыль.
Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, подшлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.
Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькомани.
Длинное здание с решетками. Это клетки.
В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.
В третьей – лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной драконской гривой.
Сидит в профиль и зевает, защурив глаза.
Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.
Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.
– Regarde la grosse bébête! Vois-tu la grosse bébête?[14]
Девочка таращит глаза, но между нею и “grosse bébête” поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.
Девочка видит только ее и все с бо́льшим ужасом таращит на нее голубые глазенки.
– La grosse bébête!
Вырастет девочка большая и будет говорить:
– Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте, толстого-толстого с бюстом и в корсете… Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.

В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши, полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь.
– Des carottes.[15]
Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет.
В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того, чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами – cotelette d’agneau, boeuf frit, chateaubriant, lapin, gigot, poulet. Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.[16]
Потом подадут пустую тарелку.
– Отчего она рыбой пахнет?
– Saumon supréme.[17]
– Ага!
Но ее совсем не видно – этой saumon supréme. Верно, кто-нибудь раньше вас съел.
Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из “Тоски”).
Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.

Театров много. Французы играют чудесно.
В одном театре идет Ки-Ки, в другом Фи-Фи, в третьем Си-Си.
Потом вы можете увидеть: “Le danseur de Madame”, “Le bonheur de ma femme”, “Le papa de maman”, “La maman de papa”, “La maman de maman”, “Le mari de mon mari”, “Le mari de ma femme”.[18]
Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:
– Faut étre fidéle à son mari.[19]
Растроганная публика рукоплещет, и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:
– Как у них прочны семейные устои. Счастливые!
– Fidéle à son mari! – рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее: – Et à son amant.[20]

Кончается душный день.
Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.
У всех цветы. Уставшие, с ослизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.
Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они – такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни – тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.
Устало и раздраженно покрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках (или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.
По кротовым коридорам гудят-гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.
Они как будто на что-то надеялись сегодня утром, и надежда обманула их.
Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.
Или просто утомила жара и душная пыль…
Все равно. Воскресный день кончен.
Теперь – спать.

Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно…
Сырье
В большом парижском театре русский вечер.
Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетоман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны.
Все старое, все похожее на прежнее.
Новое и непохожее только “Она”.
Великая Печаль.
В разгаре пустого или дельного разговора – она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет им брови и на вопрос о “заносках” ответит:
– Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России…
Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично.
У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись “не хуже других”, и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор – говорим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим – мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вывозивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого трясинного болота, мы упоминаем все реже и реже.
Стыдно как-то.
Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая:
– И была у меня в молодости, когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль…
– Чего это она раскрякалась? – недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева.
– Хочет, видно, доказать, что из благородных.
Да и к чему тут Толстой и Достоевский? Все это было и вместе с нами умерло, и здесь, в нашей загробной жизни, никакой роли не играет и никакого значения не имеет.
Все это ушло в словари: “см. букву «Д» и букву «Т»”.
Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным.
Русским сырьем.
“Сырье” – самое модное слово.
Жили-жили, творили, работали, а вышло одно сырье, да и то – другим на потребу.
Сырье!
В русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягки, да и воспитание такое получили, чтобы не “зазнаваться”.
Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый или профессор, или артист, литератор, художник – служит где-то простым рабочим.
– Молодец, – говорят. – Научат его за границей правильному труду, технике.
Как же не молодец и как же на него не радоваться!
Забудет свое настоящее, яркое и индивидуальное, и пойдет в чужое сырье.
О русском искусстве, русской литературе – в особенности о русской литературе – скоро перестанут говорить. Все это было. Нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги.
Говорят:
– Помните – я писал… Помните – я говорил…
Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной.
Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошлом кажется историческим романом.
Там, в Совдепии, тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи.
Остановились. Идем в сырье.
Мне кажется, нашим хозяевам, у которых мы сейчас в гостях, должен иногда приходить в голову вопрос: “Как могут они жить, то есть одеваться, покупать вещи, обедать и ходить в театры смотреть наши развеселые пьесы, когда каждый день приемный аппарат радио отстукивает новые стоны и предсмертные крики их близких?”
Наверное, так спрашивают они себя.
Но мы-то знаем, как мы живем, и знаем, чтотак жить можем.
Да – едим, одеваемся, покупаем, дергаем лапками, как мертвые лягушки, через которых пропускают гальванический ток.
Мы не говорим с полной искренностью и полным отчаянием даже наедине с самыми близкими. Нельзя. Страшно. Нужно беречь друг друга.
Только ночью, когда усталость закрывает сознание и волю, Великая Печаль ведет душу в ее родную страну. Ведет и показывает беспредельные пустые поля, нищие деревушки, как ошметки – ломаные палки да клочья гнилой соломы, – пустые могучие реки, где только чайки ловят рыбу и обнаглевший медведь, бурый зверь, средь бела дня идет на водопой воду лакать. И показывает пустые гулкие шахты, и тянет душу дремучими заглохшими лесами в сказочные города с пестрыми мертвыми колокольнями, с поросшими травой мостовыми, где труп лошади лежит у царского крыльца – шея плоская вытянута, бок вздут, а рядом, на фонарном столбе, что-то длинное, темное кружится, веревку раскручивает.
И летят по небу черные вороны со всех четырех сторон. Много их, много. Опустятся, подымутся, снова опустятся, кричат, скликают. И не дерутся. Чего тут – на всех хватит!
Хватит сырья.
Как мы праздновали
Думали – будет, как у нас: остановятся трамваи и водопровод, погаснут лампы, повиснут в воздухе лифты, ночью начнутся обыски, а утром известят, что похороны праздничных жертв назначаются через три дня.
И вдруг – сюрприз! Все в порядке.
Вот тебе и 14 июля!
Как-то не верилось.
Выходя на улицу, спросили у консьержа:
– С какой стороны стреляют?
Тот сначала удивился, потом улыбнулся, точно что-то сообразил, и ответил:
– Танцуют? Я не знаю где.
Он, вероятно, думал, что мы плохо говорим по-французски!
Вышли на улицу. Посмотрели. Беспокойно стало, красного много.
– Я, знаете, предпочитаю в такие дни дома сидеть, – сказал один из нас.
– В какие такие?
– Да вот когда такие разные народные гулянья. По-моему, вообще все должны в такие дни дома сидеть.
– Какое же тогда гулянье, когда все дома сидят! Тоже скажете!
– Не люблю я этого ничего. Прислуга вся ушла, обед не сготовлен, трамвай, того гляди, забастует – одна мука. Я уж так и знал! Как это самое гулянье или патриотическое торжество – так, значит, жуй целый день сухомятину, а если нужно куда поспешить, так при пехом.
– А все-таки, – сказала одна из нас, – интересно бы посмотреть, как танцуют на площадях. Мы ведь в первый раз четырнадцатого июля в Париже.
– Уверяю вас, что никто ничего танцевать не будет. Верите вы мне или нет?
– Почему же не будет?
– Потому что, во-первых, жарища, во-вторых, лень.
– Странное дело – столько лет не ленились, а сегодня как раз заленятся.
– Ну вот помяните мое слово. Верите вы мне или нет?
– Однако – долго мы будем посреди улицы стоять? Нужно же на что-нибудь решиться.
– Завтракать надо, вот что.
– Отлично. Я вас поведу в очень интересное место. Верите вы мне или нет?
– Да зачем же далеко идти – тут ресторанов сколько угодно.
– Нет уж, покорно благодарю, отравляться. Сядем в метро и через пять минут будем в чудесном ресторанчике.

– Очевидно, мы не там вылезли. Ресторан должен быть тут сразу налево.
– Да на какой улице-то, говорите толком.
– На какой? Да здесь где-то. Надо спросить… Экутэ! Пардон, мосье, силь ву плэ – ле ресторан. Болван какой-то попался – сам ничего не знает.[21]
– Да чего долго искать – пойдем в первый попавшийся, все они одинаковы.
– Ну нет, я тоже отравляться не желаю. Сядем в метро и через пять минут…
– Да вы нас уж полчаса в метро мотали – куда еще?
– Мы не там вылезли. Верите вы мне или нет? Через пять минут…

– Черт! Ведь был же здесь ресторан! Провалился он, что ли? Знаете что, господа? Вот что я вам предложу: сядемте в метро и через пять минут…
– Ну нет, как хотите, а я больше не ездец. Тут четырнадцатое июля, люди веселятся, музыка гремит, а мы, как кроты, ковыряемся под землей.
– Не хочу.
– Да где же у вас музыка гремит?
– Где-нибудь да гремит же! Ведь четырнадцатое июля.
– Не знаю. Я, по крайней мере, музыки не слыхал.
– Еще бы, когда мы с одиннадцати часов утра из-под земли не вылезаем.
– Даю вам слово, что через пять минут, даже меньше – через четыре с половиной – мы будем в чудесном ресторане. Уж все равно столько ездили – лишний час дела не поправит и не испортит.