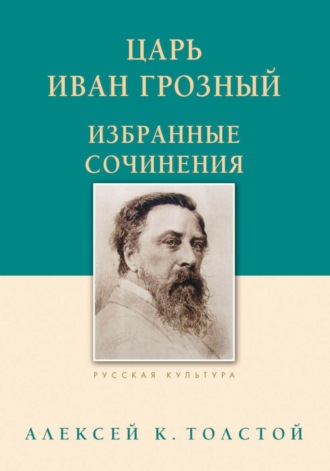
Полная версия
Царь Иван Грозный. Избранные сочинения
– Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька.
– Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Нуте ж, подруженьки, подтягивайте!
Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:
Ах, кабы на цветы да не морозы,И зимой бы цветы расцветали;Ах, кабы на меня да не кручина,Ни о чем бы я не тужила,Не сидела б я, подпершися,Не глядела бы я во чисто поле…. . . . . . . . . .Я по сеням шла, по новым шла,Подняла шубку соболиную,Чтоб моя шубка не прошумела,Чтоб мои пуговки не прозвякнули,Не услышал бы свекор-батюшка,Не сказал бы своему сыну,Своему сыну, моему мужу![21]Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.
– Ах, я глупенькая! – сказала Пашенька, – чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такие песни набиваться!
– Охота ж тебе и знать их! – подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. – Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!
И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:
Пантелей государь ходит по двору,Кузмич гуляет по широкому,Кунья на нем шуба до земли,Соболья на нем шапка до верху,Божья на нем милость до веку.Сужена-то смотрит из-под пологу,Бояре-то смотрят из города,Боярыни-то смотрят из терема,Бояре-то молвят: чей-то такой?Боярыни молвят: чей-то господин?А сужена молвит: мой дорогой![22]Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.
– Вот тебе и песня! – сказала Пашенька. – Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!
– Девушки, душечки! – сказала вдруг Елена, бросаясь на шею Пашеньке, – пособите порыдать, помогите поплакать!
– Да что с тобой сталось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?
– Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ Божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело… и теперь еще сердце надрывается… а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели… скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!
– Что ты, боярыня, грех какой! Заплесть тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!
– Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!
– Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмем!
«Неужели, – подумала Елена, – грешно и вспоминать о прошлом!»
– Так и быть, – сказала она, – не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали.
Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то умения. Надо было плесть как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь неприметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.
Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.
– Готово, Пашенька, – сказала она, радуясь своей работе. – Встань-ка да пройдись передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника!
– Всё в свою пору, боярыня, – отвечали, смеясь, девушки, – а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!
– Полноте вы, пересмешницы! – отвечала Дуняша. – Мне бы хотя век косы не расплетать! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!
Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.
– Нагнись, Пашенька, – сказала боярыня, – я тебе повяжу еще ленту с поднизами… Девушки, да ведь сегодня Ивана Купала, сегодня и русалки косы заплетают!
– Не сегодня, боярыня, а в семик и Троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.
– Бог с ними, – сказала Пашенька, – мало ли что бывает в Иванов день, не приведи Бог увидеть!
– А ты боишься русалок, Пашенька?
– Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, всё равно что в Троицын день или на русальную неделю. Девушку защекотят, молодца любовью иссушат!..
– Говоришь, а сама не знаешь! – перебила ее другая девушка. – Какие под Москвой русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украине, там другое дело, там русалок гибель. Сказывают, не одного доброго молодца с ума свели. Стоит только раз увидеть русалку, так до смерти всё по ней тосковать будешь; коли женатый – бросишь жену и детей, коли холостой – забудешь свою ладушку!
Елена задумалась.
– Девушки, – сказала она, помолчав, – что, в Литве есть русалки?
– Там-то их самая родина; что на Украине, что в Литве – то всё одно…
Елена вздохнула. В эту минуту послышался конский топот, и белая шапка Серебряного показалась над частоколом.
Увидя мужчину, Елена хотела скрыться, но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг стала как вкопанная. Князь также остановил коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыслей в одно мгновение втеснились в его голову, одна другой противореча. Он видел пред собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?
Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.
Она была замужем!
«Брежу ли я? – подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, – во сне ли это вижу?»
– Девушки! – упрашивала Елена, – отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мне делать! Что сказать мне!
Серебряный между тем оправился.
– Елена Дмитриевна, – произнес он решительно, – отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?
Елена в отчаянии искала слов и не находила их.
– Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!
– Выслушай меня, Никита Романович, – прошептала Елена.
Князь задрожал.
– Нечего мне слушать, – сказал он, – я всё понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!
И он рванул коня назад.
– Никита Романыч! – вскричала Елена, – молю тебя Христом и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!
Она не в силах была продолжать; голос ее замер; колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.
Судорога пробегала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.
Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винилась в невольной измене; говорила, что должна бы скорее наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое малодушие.
– Ты не можешь меня любить, князь, – говорила она, – не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей!
Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего.
– Никита Романыч, – прошептала Елена боязливо, – ради Христа, вымолви хоть словечко!
И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.
Сильная борьба происходила в Серебряном.
– Боярыня, – сказал он наконец, и голос его дрожал, – видно, на то была воля Божия… и ты не так виновата… да, ты не виновата… не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не кляну тебя, – нет – видит Бог, не кляну – видит Бог, я… я по-прежнему люблю тебя!

В.Г. Шварц. Свидание князя Серебряного с боярыней Морозовой
Слова эти вырвались у князя сами собою.
Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.
В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания они бросились друг к другу, и уста их соединились…
Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед Господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу! Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча.
Глава 6
Прием
Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже привлекали внимание. Он был целою головой выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал проницательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным. Но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.
– Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! – сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. – Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне Бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слыхал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!
И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.
– А помнишь ли, Никитушка, – продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча, – помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Всё, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!
Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.
– Боярин, – сказал он, – вот грамота к тебе от князя Пронского.
– Спасибо, князь. После прочту; время терпит; дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать.
Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.
– Князь, – сказал Морозов, – это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая… Кланяйся, Елена, проси боярина!.. Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и рады! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!
Морозов низко кланялся.
Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок.
Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

В.Г. Шварц. Угощение боярина
– Что с тобой, Елена? – сказал вдруг Морозов, – уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, – прибавил он шепотом, – уж не опять ли проезжал Вяземский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитятко, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот жене, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь?
– Благодарю, боярин, обедал.
– Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай похлопочи! А ты, боярин, закуси чем Бог послал, не обидь старика опального! И без того мне горя довольно!
Морозов указал на свои длинные волосы.
– Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.
Морозов вздохнул.
– За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!
При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.
Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.
– Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!
– Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!
– Прогневили мы, видно, Бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто по насердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда Божия, и крест накриве целовали и руки в письмах лживили. Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь, какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытают по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч. Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили! Но ты, князь, уже, может, слыхал про это?
– Слыхал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему дивиться. Царь волен казнить своих злодеев!
– Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольничего Адашева (Алексеева брата) с малолетным сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.
Негодование выразилось на лице Серебряного.
– Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!
– Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце.
– Боярин! – вскричал Серебряный, вскакивая с места, – если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником! Я сам бы наложил руки на него!
– Никита Романыч, стар я клеветать. И на кого же? На государя моего!
– Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?
– Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михайло Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! – сказал Репнин, – не бывать тому, чтоб я посрамил сан свой боярский!» – и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме Божием.
– Боярин! Это Бог нас карает!
– Да будет же над нами Его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенок. Многие винились с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти.
Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим – ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди – все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за посады.
Воротились мы в домы и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту: пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де, куда Бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить! Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам Бог поставил его над нами, и, видно, по Божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собралися мы в думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та Слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолившися Богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось. Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы и борода почитай совсем вылезли. Что с ним сталось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.
– А какой же уговор он прочил себе? – спросил Серебряный.
– А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в думу и нас и духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной докуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру на свой особный обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а всё достальное – то земщина. А боярам-де и митрополиту со властьми в мой домовой особный обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да всё таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все домы и всё добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!
– Да зачем же вы согласились на этот уговор? – заметил Серебряный.
– Что ты, князь? Разве царю можно указывать? Разве он не от Бога?
– Вестимо, от Бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?
– А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?
Серебряный задумался.
– Так, – проговорил он, немного помолчав, – нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на всё да молчите?
– Я-то, князь, не молчу, – отвечал Морозов с достоинством. – Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. Наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов, невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, – ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов – этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться, всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого роду, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя и нас всех, окаянный! Ну да что про него!
Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.
Между тем слуги накрыли на стол.
Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеней разного роду, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе мальвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:
– Во здравие великого государя нашего, царя Ивана Васильевича!
– Просвети его Бог! Открой ему очи! – отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.
Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.
Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.
Морозов выслушал его с большим вниманием.
– Плохо, князь, – сказал он, почесывая крутой лоб свой, – больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знамое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно Божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь, – продолжал Морозов, – когда хотел ты здравствовать государю?














