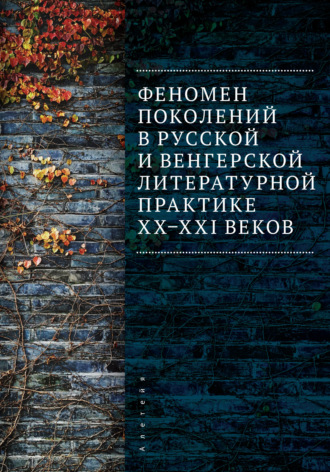
Полная версия
Феномен поколений в русской и венгерской литературной практике XX–XXI веков
Еще одно определение – «поколение без своего места в мире» – было предложено Владимиром Варшавским отчасти как аналог его же устойчивого термина «незамеченное поколение». Проблематика «своего места» в художественной и философской системе писателя – отражение масштабной темы поиска себя современным человеком в историческом и культурфилософском пространстве XX века[74].
Образ «поколения без своего места в мире» возникает у Варшавского задолго до поднятой проблематики «незамеченности» и становится сквозным в творчестве. В первом же программном эссе об Андрэ Жиде (Числа. 1930/31. № 4), описывая новое поколение эмигрантских детей, «которым негде жить»[75], Варшавский задает мировоззренческий вектор, где сплетаются время, место и сущность эмигрантского бытия: «…такой эмигрантский молодой человек внезапно, со страхом должен почувствовать, что он не помнит, не знает, где он находится, что у него не было настоящей жизни, что жизнь прошла мимо него, что он оторван от тела своего народа и не находится ни в каком мире и ни в каком месте»[76]. И дальше проблему потери «своего места» Варшавский будет поднимать в художественной прозе, статьях и литературной критике с феноменальным постоянством. Так, в послевоенной статье памяти друга («Борис Вильде», 1947) он снова опишет русского человека новой формации, который – вслед за «мечтателями» Достоевского, «измученный сознанием своей отверженности, с ужасом чувствуя, что ему нету места в окружающем его чуждом и враждебном мире, – замыкается в своем недуге, в своих неизъяснимо-сладостных безумных мечтаниях о жизни и любви»[77]. Позже, в военной повести «Семь лет» (1950), а потом в «Незамеченном поколении» (1956) Варшавский затронет ту же тему: «…одиночество эмигрантских сыновей было еще больше одиночества отцов. У тех… еще оставалась опора: воспоминание, эмигрантская общественность, место в экстерриториальной Зарубежной России, ау сыновей не было места нигде, ни в каком обществе»[78]. И наконец, в главном, итоговом автобиографическом романе «Ожидание», вышедшем в 1972 году, писатель вернется к размышлениям своего раннего эссе 1931 года, посвященного эмигрантскому молодому человеку: «А у нас не было никакого положения нигде, ни в каком обществе. Мы были чужими даже среди эмигрантов. Нас не связывали с ними заветные воспоминания о славе и счастье прежней жизни в России, нас увезли на чужбину детьми. Но все-таки мы были уже слишком взрослыми, чтобы чувствовать себя тут дома, как последующие поколения эмигрантских сыновей. Нам суждены были беспочвенность, отверженность, одиночество. Мы жили без обычных координат для определения своего места в мире, без всякой ответственности»[79].
Очевидно, что описанная Варшавским драма неукоренённости была порождена беспрецедентным эмигрантским опытом. Этот исключительный социальный и личный опыт и, как следствие, особый менталитет детей русской эмиграции обернулись существенным обновлением содержания и формы в творчестве писателей. Благодаря младоэмигрантам в русскую литературу вошел новый архетип эмигрантского человека «без обычных координат» (герои Поплавского, Газданова, Набокова, Яновского, Божнева, Шаршуна и др.). Между тем новейший герой обладал богатой генеалогией (в этом ряду «герой нашего времени» Лермонтова, упоминаемые Варшавским «мечтатели» Достоевского, «лишние люди» Тургенева и т. д.). Не менее богата предыстория поднятой Варшавским проблематики утраты «своего места» в мире. Эта глубинная связь чисто эмигрантской идеи «незамеченного поколения» с русской классикой представляет большой интерес для исследователя и помогает полнее понять эволюцию концепта «своего места» в русской литературе. Здесь ограничимся лишь несколькими примерами.
* * *«Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит», – пишет Гоголь в знаменитом эссе «Женщина в свете» из «Выбранных мест из переписки с друзьями»[80]. В русском зарубежье на проблематику «своего места» в творчестве писателя обратил особое внимание выдающийся философ и филолог Дмитрий Чижевский, определив ее как «центральную в мировоззрении Гоголя»[81]. Наблюдение это крайне ценно в контексте поднятой нами темы, и потому на разработках Чижевского хотелось бы остановиться отдельно. Через призму проблемы «своего места» по-особому высвечиваются коллизии большинства гоголевских произведений («Петербургские повести», «Ревизор», «Мертвые души» и т. д.). Желание выдать себя за другого или присвоить чужое положение в обществе, потеря своего предназначения в мире, творческого дара, внешнего облика, постепенное разрушение душевных и нравственных основ жизни, гармоничной целостности личности – эти и подобные темы у Гоголя могут быть поняты, по Чижевскому, как разные формы утраты человеком «своего места» в мире. Чижевский возводил этот гоголевский дискурс к традициям святоотеческой литературы с ее пафосом «„духовного делания“, подвига, „духовной борьбы“»[82], «душевного хозяйства»[83] и сделал предметом идейностилистического анализа в статьях «О „Шинели“ Гоголя» (1938) и «Неизвестный Гоголь» (1951).
Еще в большей степени концепт «своего места» Чижевский исследовал в творчестве Достоевского. В одной из программных работ, посвященных проблеме двойника, он заметит: «…главной проблемой для Достоевского является проблема „своего места“. Эта проблема, по сути, является одной из самых центральных для русской духовной жизни девятнадцатого века»[84]. В то же время идеи философа не ограничивались только русской духовной жизнью XIX века и выходили далеко за пределы анализа творчества Достоевского. Автор проводил многочисленные параллели между русской и европейской мыслью Нового времени (А. Герцен, Д. Писарев, Вл. Соловьев, Н. Федоров, И. Кант, А. Смит, Ф. Ницше, М. Штирнер, С. Кьеркегор и др.). Сама работа о двойнике стала частью фундаментального замысла – обширного философского труда, реализованного лишь отчасти[85].
Широчайший контекст, в который исследователь помещал идеи писателя, ставил по-новому вопрос об особой форме мысли «философской современности»[86], антагонистичной религиозно-этическим взглядам Достоевского. Ее отличительной чертой Чижевский называл этический рационализм (формализм). Основным же предметом анализа в статье о двойнике стала агрессия абстрактной мысли, отвлеченной от «своего места», т. е. от всего живого, единичного, конкретного. По Чижевскому, целый ряд героев Достоевского страдает именно такой умозрительностью этического бытия, утрачивает «онтологическую устойчивость своей конкретности» и в итоге теряет «„свое место“, свое „где“»[87]. Подробно разбирая заложников этой отвлеченной идеи, не укорененной в живой конкретности (Голядкин, Ставрогин, Иван Карамазов и т. д.), Чижевский делает крайне важное умозаключение: каждый из героев в разной степени являет собой «онтологическую пустоту» и подвержен душевному распаду («двойничеству»). Ярче всего эти черты проявлены в образе Николая Ставрогина – он «оторван ото всего мира, обособлен, изолирован, он абсолютно уединен, не имеет в конкретном никакой точки опоры. У него нет „душевного магнитного меридиана“ и для него нет того „магнитного полюса“, к которому, по мнению Достоевского, влечется всякая живая душа, – нет Бога! Живое, конкретное бытие человека, всякое его „место“ в мире возможно лишь через живую связь человека с божественным бытием»[88].
Знаменательно, что именно в контексте исторических и социальных сломов, разрушения привычных основ жизни и масштабного изгнания стала возможна в литературе о Достоевском столь глубокая разработка проблематики «своего места» с уяснением неразрывной, глубинной этической связи человека – «с конкретным окружением (родина, народ, сословие, семья)»[89]. Принципиальный акцент в исследованиях Чижевского на «не только „как“, но и „где“ этического действия»[90] был большим вкладом в эмигрантскую философскую мысль и в философию человека в целом. Не случайно его статья вызвала большой резонанс в русском рассеянии и была активно обсуждаема в начале 1930-х годов[91]. От себя добавим, что исследование Чижевского о двойнике заложило целый ряд парадигм в изучении творчества Достоевского, однако при всей фундаментальности постановки вопроса некоторые темы были намечены философом лишь пунктирно. Сегодня они представляют большой интерес как посыл для дальнейшей разработки, в том числе и в свете обозначенной темы. Одна из них – глубокая идейная связь в текстах Достоевского между символикой утери «своего места» и самовольным уходом из жизни.
* * *Апогей потери своего этико-онтологического места в мире – это акт самоубийства Свидригайлова и Ставрогина. В обоих случаях намерение уйти из жизни прочно ассоциируется у героев с отъездом и отчасти напоминает эмиграцию (т. е. акт насильственного разрушения устойчивого миропорядка). В случае Ставрогина – это гипотетический отъезд в Швейцарию, в случае Свидригайлова – в Америку[92]. «Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте»; «мы поедем и будем там жить вечно», – пишет Ставрогин Дарье Павловне, задумав свой инфернальный «отъезд»[93]. Акт самоубийства в «Бесах» – философская метафора, где другая страна и другое гражданство являются символами небытия: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: „Никого не винить, я сам“»[94].
Та же символика самоубийства предстает в «Преступлении и наказании». Поговаривая об отъезде в «Новый свет, в Америку», Свидригайлов не раскрывает замысел «путешествия». Его уход из жизни с комментарием случайного свидетеля в «солдатском пальто и в медной ахиллесовской каске»[95] максимально высвечивает проблему добровольной смерти как «исхода». При этом сцена публичного самоубийства в виде парадоксального диалога между Свидригайловым и «Ахиллесом» отмечена многократным повтором слов «чужие край», «Америка», «место», и их смысловая стяженность не случайна:
Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча, рассматривали один другого. Ахиллесу наконец показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.
– А-зе, сто-зе вам и здеся на-а-до? – проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.
– Да ничего, брат, здравствуй! – ответил Свидригайлов.
– Здеся не места.
– Я, брат, еду в чужие край.
– В чужие край?
– В Америку.
– В Америку?
Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.
– А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места!
– Да почему же бы и не место?
– А потому-зе, сто не места.
– Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.
Он приставил револьвер к своему правому виску.
– А-зе здеся нельзя, здеся не места! – встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.
Свидригайлов спустил курок[96].
Смерть как выпадение из «своего места», отъезд в «чужие край» был описан в отечественной словесности задолго до масштабной русской эмиграции. Значение литературы русского зарубежья здесь не столько в обозначении темы, сколько в существенном ее обновлении. Проблематика потери «своего места» в произведениях молодых эмигрантов не статична, наполнена новыми смыслами и подвергнута кардинальному пересмотру. Владимир Варшавский – один из авторов, существенно обогативших этот дискурс, а его герой (как правило, alter ego самого автора) – летописец нового опыта человека, заброшенного в пространство изгнания-небытия. Метафизика «своего места» в его творчестве проходит разные стадии становления. Иллюстрацией такой эволюции может служить автобиографический роман «Ожидание».
С первых же страниц, с описания раннего детства автор намечает сквозной для всего романа мотив: «…я не мог себе представить смерть мамы, или папы, или брата Юры. Этого так же не могло быть, как не могла вдруг исчезнуть занимавшая все место действительность: небо, дома, земля»[97]. Здесь – и зачин концепта, и ключ к пониманию проблемы. В чистом, «первозданном» сознании ребенка свое место существует не только в пространстве, но и во времени – отсюда прямая логическая связь между устойчивостью мира и бессмертием.

Владимир Варшавский – военнослужащий французской армии. Октябрь 1939 года[98]

Семья Варшавских (Сергей Иванович и Ольга Петровна с детьми Володей, Натальей и Юрой) незадолго до эмиграции из России.
Ок. 1919 года[99]
Когда героя «Ожидания» настигает «ветерок несуществования»? Знаменательно, что отъезд семьи из Крыма в Константинополь, как и весь эмигрантский «исход», который для старшего поколения стал трагедией, в глазах подростка – далеко еще не катастрофа, а только переход в неведомое: «Мне было странно: наша жизнь в России занимала все место, а теперь начиналась новая, неизвестная земля»[100]. Настоящий опыт «остановки жизни» герой познает вместе с уходом близкого человека – смертью брата. Это событие стало одним из самых острых переживаний и героя романа «Ожидание», и самого писателя. Старший брат Юра умер фактически на руках 16-летнего Владимира в марте 1923 года, когда братья, оторванные от семьи, оказались в русской гимназии в Моравской Тршебове. По большому счету, именно с этого года началась настоящая эмиграция Варшавского. «До тех пор я все еще жил, как в вечности. Только теперь я в первый раз почувствовал, что за привычной действительностью проступает что-то чудовищное, невместимое сознанием»[101]. После трагического ухода брата главные слагаемые – выпадение из пространства (изгнание) и времени (смерть) – складываются в идеальную формулу эмигрантства. Всё дальнейшее взросление героя и дальнейшие коллизии романа, как и события в жизни самого Варшавского, – это множественные попытки преодолеть прижизненное небытие.
* * *Одной из форм такого преодоления для Варшавского, как и для многих младоэмигрантов, стал русский Монпарнас. Роль данного хронотопа в жизни молодой русской эмиграции всецело показана в книге «Незамеченное поколение». Парижский бульвар с его открытыми всю ночь кафе и неизменной литературно-художественной богемой, с одной стороны, был настоящим социальным дном, по словам самого же Варшавского, здесь собирался «всякий сброд»: «К двум часам ночи у стоек монпарнасских баров, казалось, воскресал знаменитый Двор Чудес. <…> Показательно, что в „Последних Новостях“ Милюкова, лучшей в то время русской газете, сообщение о смерти Бориса Поплавского было напечатано под заголовком „Драма на монпарнасском дне“. И Монпарнас был действительно одним из кругов парижского дна»[102]. С другой – темная сторона монпарнасского опыта, где отщепенство и смерть (гибель поэта и друга Поплавского), вроде бы, прочно переплелись, не отменяет какой-то особой созидательной миссии этого парижского топоса. Не случайно писатель неоднократно возвращался к монпарнасскому феномену в исследованиях, воспоминаниях, выступлениях, эссе и литературной критике.
Варшавский здесь не одинок, значение русского Монпарнаса было отмечено многими писателями русского зарубежья. Достаточно привести слова идейного вдохновителя молодых парижан Георгия Адамовича: «…Франция как бы не замечала и даже просто не видела этих чудаков, откуда-то бежавших, чего-то ищущих, чем-то недовольных и к тому же вечно меж собой ссорящихся. Франция их не отталкивала, но о них и не помнила… Какое было ей в сущности дело до кучки молодых и среднего возраста людей, что-то сочиняющих на своем непонятном языке и мало-помалу растворяющихся в бездомно-интернациональной богеме, подлинным отечеством которой стал Монпарнас?»[103] Знаменательно противопоставление равнодушной Франции – Монпарнасу-отечеству. Поистине же фундаментальной точкой опоры и «отечеством» для молодой эмигрантской литературы стала провозглашенная Адамовичем «Парижская нота», созданная во многом аурой Монпарнаса.
Термин, в котором переплавились музыка и точные географические координаты, весьма символичен. Ни берлинской, ни пражской «ноты» русское зарубежье не предложило (речь идет не о литературных объединениях, которых в русском рассеянии было немало, а о масштабном феномене). Однако взаимоотношения новой эмигрантской поэтики с «адресом» своего пребывания крайне многосложны и неоднозначны. Так, идейный оппонент «Парижской ноты» Марк Слоним ничего жизнеутверждающего в русском Монпарнасе не видел, хотя и проводил заседания литобъединения «Кочевье» в одном из бульварных кафе (Taverne Dumesnil – 73, bd. du Montparnasse). Значит, не только фактическая принадлежность к монпарнасскому адресу превращала бульвар в «свое место». Антагонистичную позицию по отношению к монпарнасской среде Слоним декларировал в одном из писем к Владимиру Варшавскому: «Я „монпарнассцем“ не был, и „нота“ Адамовича – Иванова мне всегда была чужда и неприятна, они были певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения. Марксисты скажут, что они отражали психологию „побежденного класса“. Монпарнас погиб не только во времени, но и в тех, у кого была душа жива и кто не хотел терять связи с Россией. И хотел на – Россию, для – России (а не эмиграции) работать»[104]. Это соображение нам представляется крайне важным – в нем соединены в одно (хотя и со знаком минус) несколько основополагающих слагаемых русского Монпарнаса как феномена состояния, времени и места. Слоним трактует эти слагаемые зеркально: русский Монпарнас не «отечество», но альтернатива «связи с Россией» (редукция места); не обещание будущего, а яркий пример самоистощения: «Монпарнас погиб не только во времени» (редукция времени); не новое слово в литературе, а банальное повторение поэтики декаданса: «уныние, безверие, поражение и разложение» (редукция созидания). По большому счету для Слонима русский Монпарнас был символом небытия, местом непригодным для тех, у кого «душа жива». Эта трактовка идеологии монпарнассцев, «Парижской ноты» и – шире – мировоззрения молодого поколения русских парижан была поддержана многими представителями старшего поколения, а в современной исследовательской рецепции вылилась в формулу «искусство отсутствовать»[105].
Остается задаться вопросом – что имели в виду сами молодые парижане, когда утверждали, что под влиянием «Парижской ноты» «родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и не важного, вечного и временного»[106], или когда вспоминали «общую атмосферу, т. е. известный духовный климат, какой-то сговор о том „главном“, к которому хотели прийти, о том враждебном, от чего отталкивались…»[107]. На чем зиждилось «важное», «вечное», «главное» – понятия, далекие от поэтизации «разложения» и «пустоты»? Что отстаивали младоэмигранты, так настойчиво доказывая созидательный пафос монпарнасской эпохи, выстраивая бинарные оппозиции по отношению ко всему «временному» и «враждебному»? И если все эти завоевания Монпарнаса были со «знаком плюс», то что означает категория отрицания, так устойчиво прописавшаяся в автопортрете молодого поколения?
По-своему этот ребус решается у Варшавского через сквозную в его творчестве проблему «своего места». В «Незамеченном поколении» он дает описание русского Монпарнаса, которое, при всей документальности, имеет глубоко личный дискурс: «Но для нас в „Селекте“ за обычными декорациями парижского кафе и за лицами грешников магически проступала глубина другой реальности. Наши составленные вместе столики, казалось, были отделены невидимой линией Брунгильдыот всех других столиков, от Парижа, от всего враждебного внешнего мира, где для нас не было места: обломок другой планеты, перенесшийся через невообразимое расстояние. Капище орфических посвящений, Ультима Туле, особое призрачное царство»[108]. Этот пассаж во многом повторяет приведенное выше описание Адамовича и в то же время несет характерные только для Варшавского родовые черты. В рисуемой здесь монпарнасской панораме явственно присутствует ментальная граница («линия Брунгильды»), отделяющая враждебный внешний мир, где младоэмигранту «нет места», от призрачного мира русских парижан («обломок другой планеты»); за этой чертой, или крайним пределом, рождается «другая реальность». Предложенное Варшавским описание важно для понимания двоемирия феномена русского Монпарнаса. Отверженность, пустота, отсутствие «своего места» – априорная данность, особенно для «незамеченного поколения», которое никакой «настоящей былой России» фактически не застало. Для молодого эмигрантского писателя небытие — это эмпирический опыт и первичный строительный материал. Между тем сознание и творческая воля способны выстроить некий водораздел и не только отделить «враждебный внешний мир» от своего места, но и создать «другую реальность». В сущности, в этом пассаже речь идет о тайне художественного метода молодой эмигрантской литературы. Наблюдение Варшавского помогает по-новому увидеть многие «типичные» эмигрантские произведения, созданные, по определению Марка Слонима, «певцами и идеологами уныния, безверия, поражения и разложения». На поверхности этой литературы – подробное, бесстрастное описание небытия, пустоты или отверженности, однако семантическая перспектива нередко, меняя свою траекторию, движется в обратном направлении. «Парижская нота» являет массу примеров такого зеркального опрокидывания «враждебной» данности и ее парадоксального преображения в «другую реальность». У Бориса Божнева – это преодоление смерти в самом финале поэтического сборника «Борьба за несуществованье» (1925) вопреки почти навязчивой аксиоме названия книги. У Бориса Поплавского – это феномен апокатастасиса (полного восстановления) в стихотворении «Рождество расцветает…» вопреки каскаду негативных лексем («пусто», «безучастно», «страшно» и т. д.)[109]. У Георгия Иванова – это образы России и дома как «последнего приюта», которыми магически оборачиваются отчаяние, изгнание и смерть в стихотворении «За столько лет такого маяния…»[110]. Приведенные примеры точечны, но в то же время показательны (с тем же успехом можно назвать «Ночные дороги» Гайто Газданова или «Приглашение на казнь» далеко не монпарнасского Владимира Набокова). Для современного же исследователя представляет большой интерес отследить на уровне предметного стилистического анализа текста – как, какими средствами из материала с негативной коннотацией в этих текстах создается новая жизнеутверждающая реальность; каким образом «пустота», или «ничто», оборачивается воссозданием «своего места», а небытие – восстановлением своего настоящего «я». Очевидно, что в приведенных примерах присутствует этико-онтологическое усилие, диаметрально противоположное пафосу самоубийства.
Сам Варшавский неоднократно указывал на эту парадоксальную особенность новой эмигрантской литературы. В набросках к программному докладу «Русский Монпарнас», который писатель прочел на склоне лет в «Русском кружке» Женевского университета (23 января 1974 года)[111], он замечает: «С исследованиями еще неизвестных областей сознания связана надежда, что вместе с мутными подземными волнами станет доступно темному зрению „оттуда“ хотя бы самое низменное и темное, но приносящее реальное ощущение потусторонней жизни души: то есть все та же великая и безумная надежда человека – найти доказательства бессмертия. Ибо чем дальше сознание роет в глубину себя, тем сильнее проступает…»[112], – далее запись обрывается. Здесь Варшавский задает вектор в рецепции феномена литературы русского зарубежья. Предметом осмысления выступает мировоззренческая и творческая воля целого литературного поколения вопреки эмпирической реальности (потери своего места, распыления, несуществования) найти на уровне крайнего предела («Ультима Туле»), или «глубины себя», точку опоры для бытия. Проще говоря, речь идет об искусстве присутствовать.
Художественный метод самого Владимира Варшавского во многом отвечал принципам «Парижской ноты». В русском зарубежье он стал одним из ярких представителей литературы человеческого документа и за ним закрепилось устойчивое определение «честный писатель»[113] – это значило: простота повествования, максимальная непредвзятость в описании событий и людей, выразительный аскетизм. В целом как художник Варшавский отвечал лапидарной формуле Адамовича: «Искусство тем чище, чем беднее на вид»[114]. Однако в случае с Варшавским мы имеем дело с глубоко личным, индивидуальным становлением авторского почерка – не столько писатель следовал требованиям «ноты», сколько сама «нота» совпала с его мировоззрением. Впрочем, именно в «созвучности» (отзывчивости, диалогичности, неавторитарности) нового литературного течения кроется его невероятная популярность в среде молодой эмигрантской литературы. Для Варшавского же многое совпало в «ноте» с его родовой темой искания «своего места». Простоту стиля и фактографическую точность его произведений вряд ли можно объяснить ученическим буквализмом или неспособностью к вымыслу. Мировоззренческие истоки своего художественного метода писатель так объяснял в романе «Ожидание»: «Но я надеялся, усилие сосредоточиться поможет мне увернуться от небытия. Нужно только писать точно, что видишь, ничего не выдумывая. <…> Непосредственные впечатления не могут быть пошлыми или глупыми. Я для того и пишу, чтобы их проявить…»[115]. Вскоре после выхода романа в свет Варшавский запишет в дневнике: «…ведь самое трудное начать: потом начнется радость усовершенствования, или, как у Толстого, „снимания покровов“, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть» (запись 19 мая 1973 года)[116]. Здесь кроется объяснение роли «писательства» в жизни Варшавского: точное фиксирование реальности было для него одной из форм преодоления небытия. Здесь же – глубинные связи художественного метода Варшавского с феноменом русского Монпарнаса как места, где воссоздавалась, проявлялась «другая реальность».









