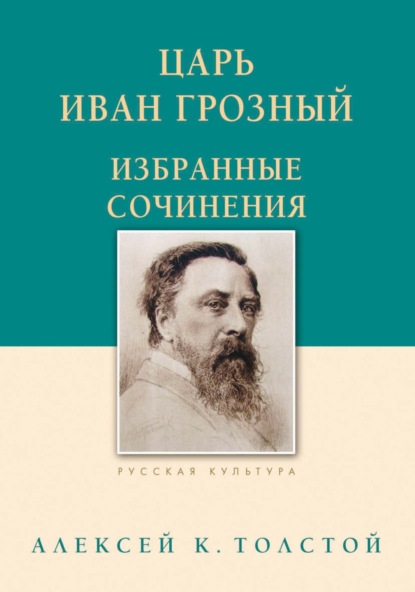Полная версия
Стихотворения. Поэмы
Мы уже говорили ранее о сходстве Алексея Толстого с Тютчевым и Некрасовым в построении любовных романов в стихах. Но и это сходство ускользало от глаз исследователей, потому что прямые суждения Толстого отвлекали внимание в совершенно иную сторону.
Так и получилось, что, несмотря на все эти творческие сближения со многими своими современниками, Толстой был одинок. Важнейшую причину этого следует видеть в том, что он сформировался как писатель в условиях позднего романтизма и не смог перейти от романтических приемов мышления к новым художественным формам. Романтическое мышление породило не только особые литературные формы: романтическую поэму типа Байрона и Пушкина, исторический роман типа Вальтера Скотта, элегию от Мильвуа и Боратынского. Породило оно и очень продуктивный для своего времени прием в построении истории: объяснение исторических судеб народов их происхождением, их прошлым. Этот прием называли в свое время философией истории, которая была очень популярна в 1820–1830-е гг. по всей Европе. И.С. Тургенев прекрасно запечатлел историка с таким типом мышления в романе «Накануне» (1859) в лице молодого ученого Андрея Берестнева. Именно в рамках этой философии истории появилась знаменитая формула «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (1848) «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»: это не просто яркий публицистический ход, это еще и отголосок образного романтического мышления. В России наиболее ярким представителем такого философского романтизма был А.С. Хомяков как автор сочинения, известного под названием «Семирамида» (1840–1850-е): это, конечно, не история ранних славян, это построение, призванное объяснить судьбы современных славянских народов. Поздний литературный романтизм на пути к реализму пытался объяснить поведение человека внешними влияниями. Поздний исторический романтизм искал объяснение «характеров» современных народов в их происхождении и обуславливал их привходящими причинами. Какая-то доля правды в этом подходе была, но абсолютизация его лишала народы на современном этапе свободы выбора: если «характеры» народов сложились именно такими, то возникал вопрос: как же они могут быть изменены?
Поэтому историки XIX в. продолжали искать новые пути. Но Алексей Толстой остановился на этих приемах философии истории и далее не пошел. Это отразилось на всем его творчестве. Роман «Князь Серебряный» стал запоздалым отголоском вальтерскоттовского романа в России. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» – это своеобразный рефлекс трилогии Ф. Шиллера «Валленштейн»: «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна» (1797–1799). Все произведения Толстого на исторические сюжеты написаны талантливо, ярко, но все они не устраивали современников писателя архаичностью своих исторических и литературных тенденций, а поздние поколения читателей использовали произведения Толстого прежде всего в качестве «применения» к современным условиям. Далее нам придется привести ряд цитат из писем Алексея Толстого конца 1860 – начала 1870-х гг., когда он особенно четко формулировал эти проблемы. Эти цитаты помогут нам понять его историко-политическую позицию. Формулу своей философии истории Толстой вполне отчетливо изложил в письме к Б.М. Маркевичу от 2 января 1870 г.: «…я не презираю славян, я, к несчастью, не имею на то права, но считаю, что им подобало бы побольше смирения, только не того смирения, примеры которого мы явили в преизбытке и которое состоит в том, чтобы сложить все десять пальцев на животе и вздыхать, возводя глаза к небу: Божья воля! Поделом нам, г<…..>ам, за грехи наши! Несть батогов аще не от Бога! и т. д., а иного смирения, полезного, которое заключается в признании своего несовершенства, дабы покончить с ним. Это – противоположность тому самоуспокоению, которое говорит: Я горжусь простором русской земли и широтою русской натуры, которая не может и не хочет ничем стесняться! Всякое ограниченье противно русской природе (ограниченье противно!), нам не нужно ни заборов, ни классов! Гуляй душа! Раззудись плечо! Не хочешь ли этого? От славянства Хомякова меня мутит, когда он ставит нас выше Запада по причине нашего православия. Сейчас я ищу – и не могу найти – сюжет для драмы в дотатарском периоде нашей истории. Соблазняло меня падение Новгорода (не подумайте, что я отношу его ко времени до татар; это лишь saltus mentis), но после некоторого изучения я нашел, что тогдашние новгородцы были заправские свиньи и не заслуживали ничего другого, как угодить в пасть Москвы, совершенно так же, как Рим угодил в пасть Цезаря. Андрей Боголюбский (еще saltus mentis) убит был пьяницами и трусами, а мне нужно что-то другое. Хотел я воспользоваться и каким-нибудь преданием, соблазнял меня Садко, но это сюжет для балета, а не для драмы. Три мои предыдущие драмы открывали для меня путь к Дмитрию Самозванцу, но им уж слишком много занимались…» [11]
Иначе говоря, Толстой считает славян такими же европейцами, как и другие (германские и романские) народы, и находит в их прошлом общие для всех этих народов тенденции демократической организации общества. В письме к М.М. Стасюлевичу от 10 февраля 1869 г. Толстой так излагает исторический контекст своей баллады «Три побоища»:
«Смерть Гаральда Гардрада норвежского в битве с Гаральдом Годвинсоном английским; смерть Гаральда английского в Гастингском сражении; разбитие Изяслава на Альте половцами. Эти три битвы случились: первые две в 1066, а последняя в 1068, но мне до этого нет дела, и я все три поставил в одно время. Гаральд норвежский был женат на Эльсе, дочери Ярослава. Сын же Ярослава, Изяслав, был женат на дочери Болеслава польского, а брат его, Владимир, на Гиде, дочери Гаральда английского. Сам Ярослав – на Ингигерде, дочери Олафа шведского. Анна, дочь Ярослава, была за Генрихом I французским, а другая дочь, Агмунда, за Андреем, королем венгерским. Я напоминаю Вам об этих родствах, чтобы объяснить весь норманнский тон моей баллады» [12].
Мысль о внутреннем родстве и тесных контактах славянских народов с германским и романским миром была любимой мыслью позднего Толстого. Она возникла в полемике с историософией А.С. Хомякова и вообще русских славянофилов. И в письме к М.М. Стасюлевичу от 10 марта 1869 г. он продолжал развивать эти положения в связи с балладой «Песня о Гаральде и Ярославне», уже прямо указывая на своих противников – «московских русопятов»:
«Эпоха Изяслава Ярославовича обильна сношениями с Европой. Если Вы одобрите эту балладу и предшествующую, у меня есть в виду еще другие, напр., сношения Изяслава с Генрихом IV (императором) и с папою Григорием VII. Очень меня прельщает показать их посольства на улицах Киева, епископа французского Roger de Châlons с своими монахами и рыцарями, въезжающих на княжий двор Ярослава, и т. д.
Цель моя была передать только колорит той эпохи, а главное, заявить нашу общность в то время с остальной Европой, назло московским русопятам, избравшим самый подлый из наших периодов, период московский, представителем русского духа и русского элемента.
И вот, наглотавшись татарщины всласть,Вы Русью ее назовете!Вот что меня возмущает, и вот против чего я ратую»[13].
Эту самую полемику с поздними славянофилами И.С. Аксаковым и А.Ф. Гильфердингом Толстой начал несколько раньше, в письме к Б.М. Маркевичу от 7 февраля 1869 г.:
«Тенденций я не придерживаюсь, это Вам известно, но бывают тенденции невольные, и я собираюсь написать несколько баллад из нашего европейского периода, так туда сердце и тянет. Я буду писать их в промежутках между действиями “Царя Бориса”, и одну из них я уже начал. Ненависть моя к московскому периоду – некая идиосинкразия, и мне вовсе не требуется принимать какую-то позу, чтобы говорить о нем то, что я говорю. Это не какая-нибудь тенденция, это – я сам. И откуда это взяли, что мы антиподы Европы? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но было это всего лишь облако, и пусть черт его умчит как можно скорее. Я посвятил этому несколько слов в моем “Проекте постановки” “Федора” – обнаружили ли Вы там какое-нибудь самомнение? Мне кажется, я больше русский, чем всевозможные Аксаковы и Гильфердинги, когда прихожу к выводу, что русские – европейцы, а не монголы…»[14]
И тому же Маркевичу 26 марта 1869 г.:
«Известно ли Вам, что Григорий VII, знаменитый Гильдебранд, был признан Изяславом? И что его антипапа Климент, не знаю уж, который по счету, отправил посольство в Киев? Каково? Что Вы об этом скажете? Католические нунции на византийских улицах Киева? А Генрих IV, германский император, тоже отправляющий посольство к Изяславу? И монахи из свиты нунция, чокающиеся с печерскими иноками? Византия и Рим ссорились, но их ссоры не могли еще коснуться народов, лишь недавно принявших христианство и друживших между собой, чему свидетельство – бесчисленные браки между ними и другими европейскими династиями. Графиня Матильда де Белоозеро – каково? Что Вы скажете? Не колоритно ли? И это соответствует ли моей теории? <…>
Скандинавы не устанавливали, а нашли уже вполне установившееся вече. Заслуга их в том, что они его сохранили, в то время как гнусная Москва его уничтожила – вечный позор Москве! Не было нужды уничтожать свободу, чтобы победить татар, не стоило уничтожать деспотизм меньший, чтобы заменить его большим. Собирание русской земли! Собирать – это хорошо, но спрашивается – что собирать? Горсточка земли лучше огромной кучи…
Но я уже выхожу из области литературы в область политики, а мои выражения из выпуклых превращаются в вогнутые»[15].
Толстой переживает историю как современность, «киевский» и «московский» периоды становятся для него символами политической организации общества. И об этом же он с удивительной настойчивостью пишет Н.А. Чаеву 5 ноября 1870 г.:
«Мною овладевает злость и ярость, когда я сравниваю городскую и княжескую Россию с Московской, новгородские и киевские нравы с московскими, и я не понимаю, как может Аксаков смотреть на испорченную отатарившуюся Москву как на представителя древней Руси. Не в Москве надо искать Россию, а в Новгороде и в Киеве»[16].
Итак, славяне, и русские в том числе, – такие же европейцы. И как все европейцы, славяне склонны к демократии, народоправию. А деспотизм – это наносная «татарщина», азиатское влияние[17]. В отличие от Хомякова и других славянофилов Толстой видит своеобразие русской нации (при этом он понимает под этим понятием всех восточных славян) не в специфике православия, а в «широте русской натуры, которая не может и не хочет ничем стесняться», и концепция этой «широты» восходит у него, видимо, к Н.В. Гоголю, к последней главе первого тома «Мертвых душ». Толстой считает, что истинное будущее России возможно только при условии преодоления «татарщины» и восстановления исконных начал демократизма («вече») и «широты». Во всем этом построении Толстой опирается, как мы видели, на конкретные исторические факты, и в этом отношении его концепцию можно признать исторически точной. Однако Толстой не учитывает, что славянские и варяжские княжества эпохи Киевской Руси и русские княжества периода Московской Руси – это совершенно разные государственные образования, и к оценке их следует подходить с разными мерками. Поэтому всё его построение, политически очень яркое и симпатичное, можно вполне справедливо назвать мечтательным и несбыточным.
Но главное для нас во всех этих письмах другое. Они прекрасно объясняют все произведения Толстого: и его исторические баллады (особенно поздние, посвященные ранним периодам исторической жизни славянства), и его сатирические произведения типа «История России от Гостомысла до Тимашева», и его лирические формулы национального характера, как «Коль любить, так без рассудку…». От одного из самых ранних стихотворений «Колокольчики мои…» до поздней баллады «Слепой» всё у Толстого подчинено этой идее. И только в призме этих построений мы можем понять его сочинения.
Пускай историческая концепция Алексея Толстого была утопичной и несбыточной. Она рождала свободу творческого духа, веселье мысли, веру в человека. Она раскрывала в человеке чувства гражданина и учила его жить вопреки обстоятельствам. Писатель и не должен давать рецепты конкретного поведения. Писатель должен создавать стихи, чтение которых само направит человека по определенному пути.
Толстой был и остается непонятым писателем. В триумвирате поэтов «чистого искусства» Фет – это гений, Майков – очень средний поэт, Алексей Толстой – поэт несомненно талантливый и самобытный. Алексей Толстой – активный поэт, который откликался на все события современной жизни, который не мог оставаться равнодушным ни к произволу власти, ни к догматическим увлечениям ее противников, и поэтому он поэт очень трудный: его нелегко вписать в литературные ряды.
Но если он труден для исследователей, то читатель, который не знает всех этих литературных отношений, легко и просто подойдет к стихам Алексея Толстого и насладится их искрометным юмором, их трогательным лиризмом, точностью описаний природы. И легко простит те преувеличения и несправедливости, которые Толстой допускал подчас в своих произведениях.
М.В. Строганов

Стихотворения
Поэмы
1830-е годы
«Я верю в чистую любовь…»
Я верю в чистую любовьИ в душ соединенье;И мысли все, и жизнь, и кровь,И каждой жилки бьеньеОтдам я с радостию той,Которой образ милыйМеня любовию святойИсполнит до могилы.1832Сказка про короля и про монаха
Жил-был однажды король, и с ним жила королева,Оба любили друг друга, и всякий любил их обоих.Правда, и было за что их любить; бывало, как выйдетВ поле король погулять, набьет он карман пирогами,Бедного встретит – пирог! «На, брат, – говорит, – на здоровье!»Бедный поклонится в пояс, а тот пойдет себе дальше.Часто король возвращался с пустым совершенно карманом.Также случалось порой, что странник пройдет через город,Тотчас за странником шлет королева своих скороходов.«Гей, – говорит, – скороход! Скорей вы его воротите!»Тот воротится в страхе, прижмется в угол прихожей,Думает, что-то с ним будет, уж не казнить привели ли?Ан совсем не казнить! Ведут его к королеве.«Здравствуйте, братец, – ему говорит королева, – присядьте.Чем бы попотчевать вас? Повара, готовьте закуску!»Вот повара, поварихи и дети их, поваренки,Скачут, хлопочут, шумят, и варят, и жарят закуску.Стол приносят два гайдука с богатым прибором.Гостя сажают за стол, а сами становятся сзади.Странник садится, жует да, глотая, вином запивает,А королева меж тем бранит и порочит закуску.«Вы, – говорит, – на нас не сердитесь, мы люди простые.Муж ушел со двора, так повара оплошали!»Гость же себе на уме: «Добро, королева, спасибо!Пусть бы везде на дороге так плохо меня угощали!»Вот как жили король с королевой, и нечего молвить,Были они добряки, прямые, без всяких претензий…Кажется, как бы, имея такой счастливый характер,Им счастливым не быть на земле? Ан вышло иначе!Помнится, я говорил, что жители все королевстваСтрах короля как любили. Все! Одного исключая!Этот один был монах, не такой, как бывают монахи,Смирные, скромные, так что и громкого слова не молвят.Нет, куда! Он первый был в королевстве гуляка!Тьфу ты! Ужас берет, как подумаешь, что за буян был!А меж тем такой уж пролаз, такая лисица,Что, пожалуй, святым прикинется, если захочет.Дьяком он был при дворе; то есть если какие бумагиНадобно было писать, то ему их всегда поручали.Так как король был добряк, то и всех он считал добряками,Дьяк же то знал, и ему короля удалося уверить,Что святее его на свете нет человека.Добрый король с ним всегда и гулял, и спал, и обедал.«Вот, – говаривал он, на плечо опираясь монаха,—Вот мой лучший друг, вот мой вернейший товарищ».Да, хорош был товарищ! Послушайте, что он за друг был!Раз король на охоте, наскучив быстрою скачкой,Слез, запыхавшись, с коня и сел отдохнуть под дубочки.Гаркая, гукая, мимо его пронеслась охота,Стихли мало-помалу и топот, и лай, и взыванья.Стал он думать о разных делах в своем королевстве:Как бы счастливее сделать народ, доходы умножить,Податей лишних не брать, а требовать то лишь, что можно.Вдруг шорохнулись кусты, король оглянулся и видит,С видом смиренным монах стоит, за поясом четки.«Ваше величество, – он говорит, – давно мне хотелосьТайно о важном деле с тобою молвить словечко!Ты мой отец, ты меня и кормишь, и поишь, и кров мнеОт непогоды даешь, так как тебя не любить мне!»В ноги упал лицемер и стал обнимать их, рыдая.Бедный король прослезился. «Вставай, – говорит он,— вставай, брат!Всё, чего хочешь, проси! Коль только можно, исполню!» —«Нет, не просить я пришел, уж ты и так мне кормилец!Хочется чем-нибудь доказать мне свою благодарность.Слушай, какую тебе я открою дивную тайну!Если в то самое время, как кто-нибудь умирает,Сильно ты пожелаешь, душа твоя в труп угнездится,Тело ж на землю падет и будет лежать без дыханья.Так ты в теле чужом хозяином сделаться можешь!»В эту минуту олень, пронзенный пернатой стрелою,Прямо на них налетел и грянулся мертвый об землю.«Ну, – воскликнул монах, – теперь смотри в оба глаза».Стал пред убитым оленем и молча вперил в него очи.Мало-помалу начал бледнеть, потом зашаталсяИ без дыхания вдруг как сноп повалился на землю.В то же мгновенье олень вскочил и проворно запрыгал,Вкруг короля облетел, подбежал, полизал ему руку,Стал пред монаховым телом и грянулся землю мертвый.Тотчас на ноги вспрянул монах как ни в чем не бывало —Ахнул добрый король, и вправду дивная тайна!Он в удивленье вскричал: «Как, братец, это ты сделал?» —«Ваше величество, – тот отвечал, – лишь стоит серьезноВам захотеть, так и вы то же самое можете сделать!Вот, например, посмотри: сквозь лес пробирается серна,В серну стрелой я пущу, а ты, не теряя минуты,В тело ее перейди, и будешь на время ты серной».Тут монах схватил самострел, стрела полетела,Серна прыгнула вверх и пала без жизни на землю.Вскоре потом упал и король, а серна вскочила.То лишь увидел монах, тотчас в королевское телоОн перешел и рожок поднял с земли королевский.Начал охоту сзывать, и вмиг прискакала охота.«Гей, вы, псари! – он вскричал. – Собак спустите со своров,Серну я подстрелил, спешите, трубите, скачите!»Прыгнул мнимый король на коня, залаяла стая,Серна пустилась бежать, и вслед поскакала охота.Долго несчастный король сквозь чащу легкою сернойБыстро бежал, наконец он видит в сторонке пещеру,Мигом в нее он влетел, и след его псы потеряли.Гордо на статном коне в ворота въехал изменник,Слез на средине двора и прямо идет к королеве.«Милая ты королева моя, – изменник вещает, —Солнце ты красное, свет ты очей моих, месяц мой ясный,Был я сейчас на охоте, невесело что-то мне стало;Скучно, вишь, без тебя, скорей я домой воротился,Ах ты, мой перл дорогой, ах ты, мой яхонт бесценный!»Слышит его королева, и странно ей показалось:Видит, пред нею король, но что-то другие приемы.Тот, бывало, придет да скажет: «3дравствуй, хозяйка!»Этот же сладкий такой, ну что за сахар медович!Дня не прошло, в короле заметили все перемену.Прежде, бывало, придут к нему министры с докладами,Он переслушает всех, обо всём потолкует, посудит,Дело, подумав, решит и скажет: «Прощайте, министры!»Ныне ж, лишь только придут, ото всех отберет он бумаги,Бросит под стол и велит принесть побольше наливки.Пьет неумеренно сам да министрам своим подливает.Те из учтивости пьют, а он подливает всё больше.Вот у них зашумит в голове, начнут они спорить,Он их давай поджигать, от спора дойдет и до драки,Кто кого за хохол, кто за уши схватит, кто за нос,Шум подымут, что все прибегут царедворцы,Видят, что в тронной министры катаются все на паркете,Сам же на троне король, схватившись за боки, хохочет.Вот крикунов разоймут, с трудом подымут с паркета,И на другой день король их улицы мыть отсылает:«Вы-де пьяницы, я-де вас научу напиваться,Это-де значит разврат, а я не терплю-де разврата!»Если ж в другой раз придет к нему с вопросом кухмейстер:«Сколько прикажешь испечь пирогов сегодня для бедных?» —«Я тебе дам пирогов, – закричит король в исступленье, —Я и сам небогат, а то еще бедных кормить мне!В кухню скорей убирайся, не то тебе розги, разбойник!»Если же странник пройдет и его позовет королева,Только о том лишь узнает король, наделает шуму.«Вон его, – закричит, – в позатыльцы его, в позатыльцы!Много бродяг есть на свете, еще того и смотри, чтоЛожку иль вилку он стянет, а у меня их немного!»Вот каков был мнимый король, монах-душегубец.А настоящий король меж тем одинокою сернойГрустно средь леса бродил и лил горячие слезы.«Что-то, – он думал, – теперь происходит с моей королевой!Что, удалось ли ее обмануть лицемеру монаху?Уж не о собственном плачу я горе, уж пусть бы один яВ деле сем пострадал, да жаль мне подданных бедных!»Так сам с собой рассуждая, скитался в лесу он дремучем,Серны другие к нему подбегали, но только лишь взглянутВ очи ему, как назад бежать они пустятся в страхе.Странное дело, что он, когда был еще человеком,В шорохе листьев, иль в пении птиц, иль в ветре сердитомСмысла совсем не видал, а слышал простые лишь звуки,Ныне ж, как сделался серной, то всё ему стало понятно:«Бедный ты, бедный король, – ему говорили деревья, —Спрячься под ветви ты наши, так дождь тебя не замочит!»«Бедный ты, бедный король, – говорил ручеек торопливый, —Выпей струи ты мои, так жажда тебя не измучит!»«Бедный ты, бедный король, – кричал ему ветер сердитый, —Ты не бойся дождя, я тучи умчу дождевые!»Птички порхали вокруг короля и весело пели.«Бедный король, – они говорили, – мы будем старатьсяПесней тебя забавлять, мы рады служить, как умеем!»Шел однажды король через гущу и видит, на травкеЧижик лежит, умирая, и тяжко, с трудом уже дышит.Чижик другой для него натаскал зеленого моху,Стал над головкой его, и начали оба прощаться.«Ты прощай, мой дружок, – чирикал чижик здоровый, —Грустно будет мне жить одному, ты сам не поверишь!» —«Ты прощай, мой дружок, – шептал умирающий чижик, —Только не плачь обо мне, ведь этим ты мне не поможешь,Много чижиков есть здесь в лесу, ты к ним приютися!» —«Полно, – тот отвечал, – за кого ты меня принимаешь!Может ли чижик чужой родного тебя заменить мне?»Он еще говорил, а тот уж не мог его слышать!Тут внезапно счастливая мысль короля поразила.Стал перед птичкою он, на землю упал и из серныСделался чижиком вдруг, вспорхнул, захлопал крылами,Весело вверх поднялся и прямо из темного лесаВ свой дворец полетел. Сидела одна королева;В пяльцах она вышивала, и капали слезы на пяльцы.Чижик в окошко впорхнул и сел на плечо к королеве,Носиком начал ее целовать и песню запел ей.Слушая песню, вовсе она позабыла работу.Голос его как будто бы ей показался знакомым,Будто она когда-то уже чижика этого знала,Только припомнить никак не могла, когда это было.Слушала долго она, и так ее тронула песня,Что и вдвое сильней потекли из очей ее слезы.Птичку она приласкала, тихонько прикрыла рукоюИ, прижав ко груди, сказала: «Ты будешь моею!»С этой поры куда ни пойдет королева, а чижикТак за ней и летит и к ней садится на плечи.Видя это, король, иль правильней молвить – изменник,Тотчас смекнул, в чем дело, и говорит королеве:«Что это, душенька, возле тебя вертится все чижик?Я их терпеть не могу, они пищат, как котенки,Сделай ты одолженье, вели его выгнать в окошко!» —«Нет, – говорит королева, – я с ним ни за что не расстанусь!» —«Ну, так, по крайней мере, вели его ты изжарить.Пусть мне завтра пораньше его подадут на закуску!»Страшно сделалось тут королеве, она еще большеСтала за птичкой смотреть, а тот еще больше сердитый.Вот пришлось, что соседи войну королю объявили.Грянули в трубы, забили в щиты, загремелив литавры,С грозным оружьем к стена м городским подступил неприятель.Город стал осаждать и стены ломать рычагами.Вскоре он сделал пролом, и все его воины с крикомХлынули в город и прямо к дворцу короля побежали.Входят толпы во дворец, все падают ниц царедворцы.Просят пощады, кричат, но на них никто и не смотрит,Ищут все короля и нигде его не находят.Вот за печку один заглянул, ан глядь! – там, прикрывшись,Бледный, как тряпка, король сидит и дрожит как осина.Тотчас схватили его за хохол, тащить его стали,Но внезапно на них с ужасным визгом и лаемБросился старый Полкан, любимый пес королевский.Смирно лежал он в углу и на всё смотрел равнодушно.Старость давно отняла у Полкана прежнюю ревность,Но, увидя теперь, что тащат его господина,Кровь в нем взыграла, он встал, глаза его засверкали,Хвост закрутился, и он полетел господину на помощь…Бедный Полкан! Зачем на свою он надеялся силу!Сильный удар он в грудь получил и мертвый на землюГрянулся, – тотчас в него перешел трусишка-изменник,Хвост поджал и пустился бежать, бежать без оглядки.Чижик меж тем сидел на плече у милой хозяйки.Видя, что мнимый король обратился со страху в Полкана,В прежнее тело свое он скорей перешел и из птичкиСделался вновь королем. Он первый попавшийся в рукиМеч схватил и громко вскричал: «За мною, ребята!»Грозно напал на врагов, и враги от него побежали.Тут, обратившись к народу: «Послушайте, дети, – он молвил, —Долго монах вас морочил, теперь он достиг наказанья,Сделался старым он псом, а я королем вашим прежним!» —«Батюшка! – крикнул народ, – и впрямь ты король наш родимый!»Все закричали «ура!» и начали гнать супостата.Вскоре очистился город, король с королевою в церковьОба пошли и набожно там помолилися Богу.После ж обедни король богатый дал праздник народу.Три дни народ веселился. Достаточно ели и пили,Всяк короля прославлял и желал ему многие лета.до 1840