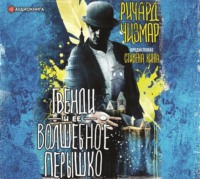Полная версия
Охота на Бугимена
Присутствие военных преобразило Эджвуд. В окрестностях появлялись школы, дома, жилье. Во время Второй мировой военных и гражданских служащих в городе стало еще больше. Поспешно перестраивалась железнодорожная станция – чтобы справиться с наплывом пассажиров. Активно строились общежития; новое жилье поднималось везде, по всей территории Эджвуда – и около завода, и дальше. Возник даже целый район на двадцати шести акрах земли – Седар-драйв. Бурный рост населения в совокупности с появлением Сорокового шоссе – четырехполосного хайвея, пронесшегося по Эджвуду, – стимулировал дальнейший экономический подъем города. В начале пятидесятых появился модный район Эджвуд-медоуз – сплошь отдельные семейные коттеджи. Эджвуд-медоуз рассекли напополам старая Эджвуд-роуд и Хансон-роуд, и вскоре обе улицы были усеяны разнообразными коммерческими заведениями. А дальше по Хансон-роуд разросся район с более доступным жильем городского типа – Кортс-оф-Харфорд-сквер. Под эту застройку ушло более сотни акров плодородной земли. На зеленом холме стоял Хансон-хаус, построенный еще Томасом Хансоном в начале девятнадцатого века, – викторианский особняк о семи фронтонах, с пятьюдесятью одним окном. Это был первый дом с водопроводом в Эджвуде. А в 1963-м на Хансон-роуд, через дорогу от ведущего бойкую торговлю супермаркета сети «Акме», открылась общественная библиотека. В том же году, чуть позже, построили дорожную развязку, соединившую Девяносто пятое шоссе и Эджвуд. Последовал очередной всплеск строительства жилья. На ста двух акрах земли вдоль Уиллоуби-Бич-роуд появились три просторные школы – от начальной до полной средней, – чтобы способствовать притоку учащейся молодежи.
Однако за любым подъемом неминуемо следует спад, и, когда армия США ушла из Вьетнама, расходы на некоторые программы вооружений были сокращены или даже вовсе прекратились. И военный, и гражданский персонал перевели на другие базы на восточном побережье. Вскоре многочисленные корпуса «Арсенала» стали походить на город-призрак. Несколько лет ходили упорные слухи, что правительство планирует открыть на заброшенных территориях десантное училище, но слухи так и не подтвердились.
К концу восьмидесятых Эджвуд занимал территорию около семнадцати квадратных миль. Население составляло почти 18 тысяч человек, 68 % – белых, 27 % – афроамериканцев, 3,5 % – латиноамериканцев. Средний доход домохозяйств немного не дотягивал до среднего по стране и составлял 40 500 долларов. Средний состав домохозяйств равнялся 2,81 человека, средний размер семьи – 3,21.
Так выглядело официальное лицо Эджвуда в цифрах.
3А вот каким я знал и любил Эджвуд.
Я вырос в скромном двухэтажном доме с зелеными ставнями на углу Хансон и Тупело-роуд. Дом, тротуары, улицы и дворики, его окружавшие, были для меня целым миром с пяти лет и до того самого времени, как я уехал учиться в колледж[4] в семнадцать. Родители живут все еще там.
В семье пять детей: я младший, три сестры – Рита, Мэри и Нэнси – и наш старший, Джон. Я отстал от появления на свет всех остальных почти на восемь лет. Другими словами, я родился, вероятно, по ошибке. Так ли, нет ли, у родителей я никогда не спрашивал; однако братец с сестрицами мне столько по ушам на эту тему ездили, что трудно усомниться. Впрочем, какая разница?
Отец – отставник ВВС США, человек спокойный и трудолюбивый, достойный и честный. Мама – женщина миниатюрного сложения, высококлассная сиделка и все еще та же эквадорская красотка, на которой отец когда-то женился. Родители всегда относились к нам, детям, с одинаковой любовью, пониманием и терпением. Ну или почти одинаковой. Уверен, что я – не только самый младший и, как многие считают, самый прелестный, но и самый последний из детей Чизмаров, загостившийся под крышей отеческого дома, а потому – родительский любимчик.
Что-то меня в сторону занесло.
Наше крыльцо с белой крашеной дверью и большой застекленный эркер выходили на Хансон-роуд, главную и самую загруженную автодорогу Эджвуда. Знак ограничения скорости – двадцать пять миль в час – стоит прямо напротив нас, но редкий водитель на этой дороге соблюдает скорость. Правая стена дома выходит на Тупело-роуд, улицу широкую, трехполосную, правда, значительно менее загруженную. Она начинается здесь, на перекрестке, и тянется аж до методистской церкви Пресбери-Черч, что на Эджвуд-роуд.
К дому притулился небольшой, на одну машину, гараж – туда можно попасть прямо из столовой. Гараж – отцовская берлога, неприкосновенное убежище. Маленьким я то побаивался этого места, то приходил от него в восторг. Почему-то оно всегда казалось мне похожим на лавку чародея из диснеевского мультфильма «Фантазия», полную волшебства и сумбура. Вдоль задней стены тянулся самодельный узкий верстак, а над ним, полностью увешанная инструментом, – перфорированная панель: десятки инструментов и приборчиков с загадочными надписями, логику расположения которых я и по сей день не понимаю. На противоположных концах верстака, приткнувшись к стене, друг на друге стояли четыре кубические тумбы с выдвижными пластиковыми ящиками, аккуратно подписанными и полными самых разных болтов, гаек, гвоздей и шайб. Также на противоположных концах верстака к переднему краю были прикручены двое здоровенных железных тисков. Под верстаком отец аккуратно складировал пиломатериалы, а еще оттуда виднелись несколько пластиковых ведер да пара многоцелевых табуреток. Остальные стены гаража занимали листы прислонившейся к ним фанеры и мебель, ожидающая починки; еще тут грозно дислоцировались станки: циркулярка со сверкающими стальными зубьями, ленточная шлифмашина, фрезер, сверлильный станок. И мне, и дружкам моим эти инструменты казались приспособлениями для изощренных пыток. Выше на стене, одна над другой, громоздились самодельные полки, плотно забитые небольшими картонными коробочками, стеклянными баночками, жестянками из-под кофе; на всех наклейки – полоски малярного скотча, – подписанные отцом сплошь заглавными буквами: ТРОС. ЛЕНТА. ПРОВОДА. СКОБЫ. СТРУБЦИНЫ. ПОДШИПНИКИ. Когда тебе восемь, все это – инвентарь чародея.
Увы, от остального в доме дух не захватывало. Крошечная кухонька, столовая, гостиная, прихожая – вот и весь первый этаж. Древний стереопроигрыватель – тумба, в которой разместилась отцовская коллекция джазовых пластинок, – стоял в центре эркера под окном, а вдоль стен – несколько шкафов красного дерева. Плюс гарнитур из дивана и кресла неописуемого зеленого цвета. Наверху – три скромные спальни и ванная. Моя спаленка – в дальнем углу, ее окна выходили на боковой и задний дворик. Под первым этажом находился гидроизолированный подвал: стены, закрытые темными панелями, угловой диван, уютные откидные семейные кресла, черно-белый кофейный столик мраморной отделки, на котором отец почти каждый вечер раскладывал пасьянсы, старый добрый телевизор «Ар-Си-Эй» и восхитительные резные часы с кукушкой в центре на тыльной стене.
Одно из любимейших мест дома – огромная веранда с выходом на задний двор, на которую можно попасть из столовой через стеклянную дверь. На этой веранде я провел бессчетные летние вечера – с комиксами или книжками в руках, раскладывая бейсбольные или футбольные карточки, играя с друзьями в настольные игры. Мама выносила нам кувшин домашнего лимонада и шоколадное печенье, теплое и липкое, только что из духовки. А еще, когда было тепло, мы с ребятами спали там всей веселой компанией.
Несмотря на раннюю любовь к чтению, не говоря уже о страсти к фильмам ужасов и вестернам, я не был домоседом. С того самого дня, как мы сюда переехали, я часами торчал под нестареющей плакучей ивой, что стоит на страже у дома, воображая будто я – Джим Палмер, питчер[5] «Балтимор Ориолс», получивший приз Сая Янга. Подошвой старой теннисной туфли я расковыривал траву, будто там – резиновая площадка на питчерской горке, а потом, высоко задрав колено, отправлял свой коронный крученый мяч в небольшой участок голой бетонной стены в опасной близости от подвального окошка. Я и сейчас считаю, что только чудом ни разу не разбил это окошко. Зато зеленый ставень слева от окна дорого заплатил за мою детскую самоуверенность. Сотни плохо просчитанных бросков превратили его в хлам: мои воображаемые отбивающие всегда были правшами, а кидал я слишком высоко и метил в голову. В общем, ставень едва цеплялся за стену парой ржавых гвоздей, и отец до сих пор ворчит на меня за эту размолоченную деревяшку.
Трещины в асфальте рассекали тротуар перед домом на Хансон-роуд на тридцать три куска разного размера и формы, а тротуар вдоль Тупело – на девятнадцать. Эти дорожки я знал как свои пять пальцев. День за днем двенадцать лет я ходил по ним, гонял на велосипеде или скейте. Мальчишки строили горки из цементных блоков и досок, добытых на стройке или «позаимствованных» в отцовской мастерской, и сигали с них на великах. Как правило, мы гоняли даже без маек, что уж тут говорить о шлемах. Однажды мы уговорили какого-то мальчугана, жившего по соседству, прыгнуть с завязанными глазами. Кончилось это печально, и одного раза нам хватило. Порой ставки поднимались – мы прыгали через мусорные контейнеры или пластиковые мешки с травой и листьями. А иногда ложились в рядок на тротуаре, и кто-нибудь прыгал. Уж я-то точно знаю, куда может завести слепая подростковая вера. Вот ее предел: ты лежишь на раскаленной от солнца бетонной плите, прижав руки к ребрам и закрыв глаза, а твой дружок-идиот воображает, что он – какой-нибудь чокнутый каскадер Ивел Книвел, и прыгает через тебя на велосипеде.
Одним летним полуднем старшая сестра моего дружка Нормана, Мелоди – местная знаменитость и вообще личность крутая, ведь она уже ездила на машине и курила сигареты без фильтра, – тормознула на своем «Транс Аме»[6] у соседнего дома и стала уговаривать нас дать ей прокатиться. Норм сначала упирался, но потом сжалился и уступил свой ярко-зеленый «Хаффи». Помню все как вчера. Из динамиков «Транс Ама» (тачки цвета «полночь») ревет Дэвид Боуи, а Мелоди крутит педали вверх по Тупело, пока не добирается до пожарного гидранта на углу Черри-корт. А затем разгоняется и несется вниз. Быстро. Слишком быстро. Мы все стоим на бордюре, раскрыв рты в благоговейном ужасе, и тут она налетает на нашу самодельную рампу на скорости километров сорок в час и взмывает в воздух метров на пять-шесть, а длинные грязно-белые волосы струятся за ней, как плащ супергероя. Шины «Хаффи» встречаются с асфальтом, звучно шкрябнув, мы радостно орем, но тут же замолкаем – колеса ведет, начинается расколбас. На Хансон-роуд – машины, однако мы не успеваем ее предупредить. Велик влетает точно в знак «стоп» на углу, и Мелоди шлепается на тротуар, будто тряпичная кукла. Мы всем кагалом летим к ней – сейчас увидим первый в жизни настоящий труп!.. Но не тут-то было: девчонка приподнимается на ободранном локте; ноги и правое предплечье – кровавое месиво, а она хохочет. Это невероятно: мало того что жива, она еще и считает, что все это жуть как весело. Вот так и появляются на свет легенды.
Восторг не разделял один лишь Норм. Он был в ярости: велосипедная рама скручена в безобразную баранку, и ее уже не починить. А ведь это недавний подарок от родителей на день рождения! Норм разразился шквалом цветистых выражений, но я об этом узнал позже и с чужих слов. Честно признаться, я тогда на него внимания не обращал. Не мог отвести взгляда от восхитительной загорелой кожи на обнажившемся теле Мелоди, щедро выставленном напоказ – оранжевая майка задралась после падения на тротуар. А над этим плоским, гладким, загорелым животиком виднелись темно-алые шнурки кружевного лифчика, подхватившего бледный холмик голой груди – первый лифчик и первая в жизни настоящая сиська, доставшаяся глазам вашего покорного малолетки. В девять лет я пялился на Мелоди, как грязный старикашка на переполненном пляже. Потом она поднялась, отряхнулась, села в свой «Транс Ам» и уехала. То был величайший день моего детства.
Отец всегда свято верил: необходимо ухаживать за тем, что имеешь. Он гордился своими вещами. Наши автомобили непременно сверкали чистотой и полиролью. Однако отцовским особенным любимчиком всегда был газон. Весной и осенью газон удобрялся; отец регулярно стриг кусты и обрезал деревья, а после летних гроз собирал обломанные ветки. Особенно усердно он подравнивал траву вдоль тротуаров и иногда прорезал такие глубокие траншеи по обе стороны дорожки, что туда неизменно залетали велосипедные колеса, приводя к частым и зрелищным авариям. Я, кстати, до сих пор не уверен, что устраивал это отец непреднамеренно. А уж газонокосилкой он работал словно по расписанию, раз в неделю, с каким-то религиозным пылом.
Нам повезло: двор был едва ли не самым большим в квартале и, к вящей печали отца, часто превращался в игровую площадку для моих дружков. Во что мы только не играли: от бейсбола и кикбола до мини-гольфа и войнушки. На драгоценном отцовском газоне появлялись размеченные ромбиком базы[7] для бейсбола, а роль самих баз выполняли тарелки-фрисби, все в отметинах собачьих зубов, да крышки от мусорных бачков. Провисший телефонный провод, что пересекал Тупело-роуд, по умолчанию служил границей хоумрана[8]. Земля ходуном ходила под нашими ногами, а с эджвудского «Арсенала» то и дело слышались отдаленные и приглушенные «бу-бух!» во время испытаний. Нередко над головами ревели эскадрильи истребителей или вертолетов; они летали на абердинский испытательный полигон, где отец служил авиатехником. Когда машины проходили над головой – на полигон или обратно, – мы неизменно бросали все игры и стреляли по ним из воображаемых невидимых пулеметов или базук.
Я частенько устраивал у гаража платные представления с фокусами, взимая по десять центов с посетителя. А еще устраивал на боковом дворике балаганные представления, призами на которых служили старые комиксы и игрушки на выброс, – все, чтобы облегчить карманы соседской детворы. На перекресток Тупело и Хансон я, бывало, выносил маленький столик и приторговывал холодным лимонадом в бумажных стаканчиках – его брали водители проезжих автомобилей.
Во дворе, в углу, примыкающем к улице, росли здоровенная слива и декоративные яблони с маленькими яблочками – то был наш неиссякаемый источник боеприпасов для многочисленных битв. Деревья также служили отличным укрытием для засад на проезжающие автомобили с последующим их обстрелом. Сколько бы меня ни отчитывали, сколько бы ни наказывали, я любил швырять эти мелкие яблочки, а также снежки или земляные комочки в машины на улице. Никакого объяснения этому изъяну моей личности я найти не в силах. Единственно могу сказать: если вы хоть раз ложились на пузо в прохладной летней траве в ожидании приближающегося транспорта, а потом вслушивались в «бац» от удара, то прекрасно понимаете, о чем я говорю. А еще больше кайфа было, когда машина тормозила, оттуда выскакивал водитель и гонял нас по улице. Для парней с Хансон-роуд то были моменты чистого блаженства, полные адреналина. Было время, когда мой ошеломленный отец даже считал, что по мне плачет исправительный лагерь, а то и тюрьма. В конце концов он просто перестал обсуждать со мной эту тему, а дражайшая матушка пыталась отвадить меня словами:
– Мальчики, может, вам светлячков половить или в шарики поиграть?
Никто не обрадовался моему отъезду в колледж так, как родители, потому что только перед отъездом я навсегда избавился от этого «хобби».
Дом с зелеными ставнями и старая плакучая ива стали опорой моего взросления, ступицей «колеса жизни». И каждая тропка, большая ли, маленькая ли, бегущая от дома, все были словно спицы этого колеса, расходящиеся в разных направлениях. Мой Эджвуд простирался от Кортс-оф-Харфорд-сквер (где-то в полутора километрах к северу от дома) до Флаинг-Пойнт-парк на берегу Буш-Ривер (километрах примерно в трех к югу от школы для старшеклассников). Да, у нас все было как в поговорке – мы с друзьями каждый день ходили в школу и из школы пешком, пока сами не сели за руль. Мы жили в паре кварталов от того места, где ходил школьный автобус, но не жалели, что не успеваем на него. Долгой дорогой до школы и обратно мы дурачились как могли. А еще то был прекрасный способ оттянуть неизбежную тягомотину домашней работы. К тому же у нас появлялись дополнительные возможности пошвырять маленькие круглые предметы в проезжающие авто, а если повезет, то и в школьный автобус.
В детстве я дружил с целой ватагой ребят. Но ближайшими подельниками, с кем я стал действительно неразлучен, были Джимми и Джеффри Кавано. Они жили на Хансон-роуд, в двух домах от меня вверх по холму. С изобретательными и хулиганистыми братьями Кавано мне всегда было чертовски интересно. По соседству от них жили Брайан и Крейг Андерсоны. Отчаянные сорванцы, оба слишком похожие друг на друга и слишком безбашенные для настоящей дружбы. Приведу два случая, и вам станет ясно, как этих парней обычно плющило. Однажды они поссорились, да так, что Крейг в ярости ворвался на кухню, схватил грязный разделочный нож и, догнав Брайана, всадил тому лезвие в ляжку. Справедливости ради надо заметить, что именно Крейг забинтовал потом рану старшего брата и вызвал «Скорую». А в другой раз, безумно жарким днем, Крейг, ослепленный гневом, спустил штаны, присел на корточки на Хансон-роуд и испражнился себе прямо в ладошку. Затем бросился в погоню за удиравшим братом и, словно бешеная мартышка в зоопарке, метнул горсть свежих какашек в его голую спину. Знаю, знаю, выглядит такое описание гадостно, да и поверить трудно. Но я там был и видел все своими глазами – зрелище то еще, мне никогда этого не забыть.
Джимми и Брайан учились годом младше, и мы втроем были особенно дружны; Джефф и Крейг пошли в школу на несколько лет позже своих старших, но ничуть не более башковитых братьев. Я в этой троице заправлял – во-первых, был на год старше, а во-вторых, мне придавали веса три старшие сестры. Джимми и Брайан никогда особо не противились моей роли заводилы, да и я, помнится, всегда с восторгом хватался за любые их дикие предложения. Кто-то держал нас за трех мушкетеров, а кто-то – за трех балбесов. Нас знали все, и мы всех знали, и нам было дело до каждого паренька и почти каждого взрослого в нашем районе Эджвуда. Мы вообще много всякого знали. Знали, где живут хорошенькие девчонки, где можно срезать дорогу, в каких автоматах по продаже сигарет остаются лишние коробки спичек (то была бесценная валюта, обменному курсу которой равнялись, пожалуй, лишь петарды), на каких помойках можно найти больше стеклотары, чтобы сдать, а еще где делали нычки с порножурналами. Знали мы, и кого из детей родители лупцуют, и чьи родители закладывают за воротник; и кто из соседей ходит в церковь с утра по воскресеньям – то есть в чьем бассейне можно поплавать, пока хозяев нет дома. А когда стали постарше, знали, в каких магазинчиках нам продадут выпивку. Знали мы, и где копы прячутся с радарами, и на каких парковках можно безопасно зависнуть с девчонкой.
Типичный летний день состоял из всех видов приключений для детей нашего возраста. Мы успевали поиграть во все известные человечеству спортивные игры и даже в те, что сами изобрели от смертной скуки. То мы давили пузырьки гудрона на дороге; то жульничали, играя в «Марко Поло» – водные салочки в разборном бассейне Кавано; то рыбачили в окрестных ручьях, прудах и речках; то исследовали бескрайние леса и возводили тайные подземные форты. Бывало, появлялся наш добрый друг Стив Сайнз с полуавтоматической мелкашкой, и тогда мы целыми днями охотились на ворон и грифов или шмаляли по пустым бутылкам. А то еще тренировались в стрелковой технике безопасности: тыкали стволом в ноги друг другу, вопили «прыгай!» и сразу же давили на спусковой крючок, любуясь фонтанчиком земли, взлетавшим на том месте, где только что стояли пятки друга. Чудо, что мы умудрились сохранить пальцы на ногах.
А еще так развлекались: карабкались по вихляющейся водосточной трубе на крышу начальной школы «Седар-драйв» и играли в альпинистов, забравшихся на покрытую снегами вершину горы. Или влезали по такой же трубе на крышу бензозаправки «Тексако» на перекрестке Хансон и Эджвуд-роуд и демонстрировали голые задницы проезжавшим водителям. Это каскадерское представление плачевно закончилось одним памятным днем, когда отец заметил сияние наших костлявых бледных задниц, возвращаясь домой с работы. Меня потом неделю из дома не выпускали.
О жизни в маленьком городке вроде Эджвуда надо понять одну важную вещь: от скуки обзаводишься крайне странными компаньонами. Вот почему в том, что мы вытворяли, подчас было так мало смысла. Как-то летом вместе с нашим старинным приятелем Карлосом Варгасом мы организовали этакую закрытую тусовку и назвали ее «Клуб отважных». Кто мне объяснит, почему обряд вступления в клуб состоял в швырянии маленьких машинок в бассейны к случайно выбранным для этого соседям? Вспоминается мне и период нездоровой одержимости жабами: мы зачем-то сажали их в пустые банки из-под арахисового масла. А еще я как-то целый июльский день бродил без рубахи, но со здоровенной дохлой, почти двухметровой черной змеей, болтавшейся у меня на шее. Я даже пытался войти с ней в несколько магазинов, но меня не пустили. Никто – включая меня самого – не знает, зачем мы это вытворяли. Впрочем, таким вопросом мы не озадачивались. Главное, было весело.
В эджвудском торговом центре тоже всегда находилось чем заняться. Местная аптека служила нашим основным источником леденцов и эксклюзивным поставщиком комиксов, а также бейсбольных и футбольных карточек. Я покупал там все подарки на День матери, начиная с возраста, когда мог самостоятельно пойти в магазин, и до момента, когда в шестнадцать лет получил права. В магазине алкоголя продавались изумительные пицца-сабы, здоровенные багеты с пиццей – сырное объедение, тающее на языке. В прачечной самообслуживания я первым делом отправлялся к старинному торговому автомату с конфетами и затаривался упаковками жвачки «Бабл-Ям», невероятно дешевой, по десять центов пачка, тогда как везде она стоила по двадцать пять. Я горстями скармливал этому автомату десятицентовики, а потом продавал жвачку в школе отдельными кубиками. Это давало весьма недурной навар, который потом целиком возвращался в магазин и уходил на пицца-сабы. Ну и напоследок о самом сладком: о бильярдном зале отца нашего дружка Брука Хокинса. Здесь мы учились играть в пул-восьмерку и искали на грязном ковре четвертаки, потерянные выпивохами. Свет в бильярдной был всегда приглушен, забулдыг было полно, и почти всякий раз удавалось найти монетку.
На парковке перед торговым центром ребята постарше построили рампу для скейтбординга – три метра в ширину и почти полметра высотой. Благодаря мощному освещению парковки мы гоняли по этой рампе днем и ночью. Иногда приезжали девчонки, целыми ватагами, на машинах, смотрели, как мы катаемся, и поддерживали нас радостным улюлюканьем.
Про Кавано и Андерсонов достаточно сказать, что в библиотеку они не очень-то рвались, а вот меня оттуда было за уши не вытащить. Развалюсь, бывало, в огромном мягком кресле в отделе взрослой литературы и пожираю книгу за книгой. Первым излюбленным объектом изучения стал генерал Джордж Армстронг Кастер, да и вообще все о Диком Западе, Гражданской войне и необъяснимых загадках. Меня тянуло к тайнам и детективным рассказам, я безоглядно верил в призраков и оборотней, в лох-несское чудовище и снежного человека.
Однажды в субботу к нам в город пришел всамделишный охотник на снежного человека. Пришел он откуда-то с запада и устроил в библиотеке обширную экспозицию. Охотник говорил небыстро и сильно сутулился. Мне запомнились кустистые брови, сросшиеся в одну, и нечесаные усы с проседью; а еще запомнилась изумительная лекция, в ходе которой демонстрировались фотографии, карты, рисунки и даже клок подлинной шерсти снежного человека – охотник пришпилил его кнопкой к доске. Мне удалось уговорить Джимми пойти со мной, мы сели в центре первого ряда и восхищенно внимали каждому слову. А после лекции уединились в ближайшем проходе между книжными полками, пошептались и разродились планом. Вернувшись в лекционный зал, где дорогой гость позировал для фото и болтал с кучкой поклонников, мы приступили к первой фазе вышеупомянутого плана, а именно к совершению диверсии с целью отвлечения внимания. Сейчас мне уже не вспомнить, в чем конкретно состояла диверсия, однако полагаю, это было нечто связанное с падением диверсанта на пол и артистичным исполнением эпилептического припадка. Когда посетители с озабоченным видом сгрудились над моим трепыхавшимся товарищем, я проскользнул к выставочному столику и, сцапав несколько прядей подлинной шерсти снежного человека, сунул их в карман поглубже. Несколько минут спустя нам удалось бежать, и никто ничего не пронюхал. Я впервые – с гордостью и стыдом – признаюсь в этом грехе. И по сей день мне неизвестно, что приключилось с тем клоком подлинной шерсти снежного человека. Предположу, что мама нашла его в выдвижном ящике моего стола, брезгливо поморщилась и, покачав головой, выбросила.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».