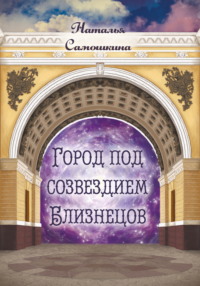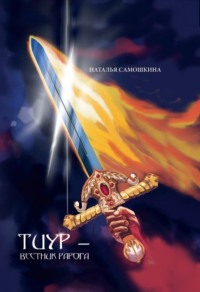Полная версия
Ловец заблудших душ

Наталья Сатошкина
Ловец заблудших душ
Хвостом плеснула рыба,
Иль камень кто-то бросил,
Иль мысли плещутся волной,
Иль облака роняют облик – отраженьем?
Рябь – на реке.
Найра
© Наталья Самошкина, текст, 2023
© Издательство «Четыре», 2023
Глава первая
Его видения были смутны и раздражающе-податливы. Он в очередной раз брёл среди тумана, который выталкивал из себя двери, словно подобранные любителем розыгрышей в лавке старьёвщика или на свалке, куда свозят обшарпанные, заляпанные краской или обшитые дешёвым дерматином останки человеческих судеб. Едва его пальцы прикасались к дверной ручке, чтобы опередить неуловимое время, как мираж таял, чтобы заманчиво вспыхнуть на расстоянии затаённой мысли. Это повторялось уже несколько лет, воздвигая стену между привычной реальностью и желанием разобраться в себе. Алекс был твёрдо уверен, что случайно попал на Землю, вернее, выпал ненароком из своего мира и наглотался при рождении чужой воды, отбившей память, но не истребившей голос крови, взывающий из глубин подсознания.
Он вынырнул из очередного блуждающего хаоса и уставился на стол, где дремал кот и отмокал в чае разбухший ломтик лимона. В дверь стучали, назойливо вторгаясь в пространство, называемое неприкосновенным. Алекс неспешно натянул джинсы и босиком пошлёпал к входу. Мельком взглянул на себя в зеркало, скривил опухшему отражению страшную рожу, взъерошил русые с едва заметной сединой волосы и повернул ключ в замке.
– Войди же во Врата рая! – шутовски возгласил он, отвесив земной поклон.
– Вот ещё выдумал! – недовольно буркнула пожилая женщина, развязывая на шее пёстрый шарф. – С каких же пор твоя берлога стала прибежищем для святых и прощённых?
– А с тех пор, как я перестал искать своё место среди ловкачей, раздающих индульгенции направо и налево, наискосок и по диагонали, по средам и воскресеньям, – бросил Алекс и турнул кота со столешницы.
– Всё бы тебе языком молоть, – ответила мать, отбирая пробу среди залежей пыли, подобно эксперту из криминального отдела. – У тебя тут что, песчаная буря прошлась, ежели из этих барханов получилась марсианская пустыня? Или целый месяц кукуешь один, без очередной забегающей или налетающей пассии? Обычно твои «жёны на полгода» дружно поддерживают порядок. А нынче дом смахивает на предбанник ада, где грешники дожидаются распределения и смачно грызут семечки, швыряя шелуху мимо урны, чтобы злорадно хихикать за спиной у чёрта-уборщика.
«Женщины!» – подумал Алекс, задёргивая штору на окне, чтобы не слышать, как будет причитать мать над мощами очередного бесславно погибшего мученика – фикуса, засушенного до такой степени, что требовался палеонтолог, способный определить с точностью эру зарождения экспоната, приближающегося к возрасту динозавров.
«Женщины! – опять всплыла мысль. – Такие разные на вид и такие одинаковые по сути. Сколько их перебывало в моём доме! Пухленьких, словно не расставшихся с детством; тонких, как хлыст; любительниц поджарых псов или разъевшихся кошек; последовательниц здорового питания, йоги или очередного гуру; домохозяек, определяющих по запаху чистоту тюля и срок годности абрикосового йогурта; спортсменок с каменными грудями и накачанной задницей; высоких и от этого обожающих модельную обувь на шпильках; миниатюрных, управляющих с высоты своего величия; состоявшихся в профессии и личной жизни; пропадающих “на корню” от непонимания близких; жгучих брюнеток, соломенных блондинок, рыжих бестий и русых всех оттенков. И все они стремились – рано или поздно – пристроиться рядом со мной, льстя своему вековечному, всосанному с молоком матери, отрепетированному и отлакированному знанию о мужчине: тщеславном, в меру умном, похотливом и абсолютно не разбирающемся в ЖЕНЩИНЕ».
Он усмехнулся. Они играют, чтобы заставить им поверить; манипулируют, чтобы обвинить в этом другого; страдают до слёз и желудочных колик, чтобы увидеть вместо взрослого мужчины прыщавого подростка с кучей комплексов; возлагают цветы на могилу своих надежд и заодно приносят венки к постаменту избранного идола; носятся с чистящим средством, способным отбелить «чёрного кобеля» или унитаз с ржавыми потёками; загораются от страсти и имитируют оргазм, прославляя силу члена, чтобы утвердиться на занятом плацдарме. Они – богини, пьющие коньяк от разочарования; королевы, выпрашивающие хоть толику внимания; русалки, тонущие из-за того, что обрели ноги; анчутки[1] с разноцветными прядями в волосах и стойкими запросами. Они ломают комедию, чтобы выстроить гнездо, и всё равно, кто выведется из отложенных в нём яиц – Гаруда[2] или аллигатор, химера или прирученный оловянный солдатик.
Мать, успевшая сварить кофе в джезве и сотворившая на ходу бутерброды с колбасой, покосилась в его сторону и тихо спросила:
– Опять зеленоглазая?
Да, тысячу раз – да! – едва не крикнул Алекс, но лишь приподнял «домиком» брови и, как за спасательный круг, вцепился в горячую чашку.
Обжёгся, едва не облившись крепким кофе, отхлебнул горечь и пришёл в себя.
– «Зе… ле… но… гла… за… я», – пропелосьунеговнутри, вызывая подёргивания в животе и лёгкие спазмы в сердце.
Женщина из его видений – ускользающая Тень, кошкой гуляющая из одного миража в другой, открывающая двери и пахнущая терпко и непонятно. Она не торговала ужимками, но влекла к себе, словно к амброзии, случайно забытой богами в Междумирье. Её не просто хотелось – желалось сожрать до последней косточки, выпить кровь, подобно вампиру, и при этом стать для неё чем-то большим, нежели самцом с двумя высшими образованиями и способностью притягивать женщин. Алекс надеялся, что однажды она проявится во плоти, зачарованная его Хаосом и «чёрными дырами».
Глава вторая
Она заказала капучино и пирожное с тремя пухлыми вишнями поверх разводов белого и шоколадного крема. Платиновая блондинка, коротко стриженная, с той долей беспорядка в волосах, которая свидетельствует о фантазии мастера и о характере женщины, соединившей элегантность с особым взглядом на происходящее. Кафе на канале Грибоедова было полно, и только за столиком, где устроилась с удобством незнакомка, пустовали два места.
«Странно, – удивился Алекс, решивший выпить глинтвейна по случаю прохладного питерского вечера, норовившего соскользнуть в почти осеннюю стылость. – За другими столиками тесно, как в чреве у арбуза, а возле этой красотки будто граница обустроена. Под электрическим напряжением!»
Он негромко хохотнул, принял стакан с горячим напитком и устремился к блондинке, благословляя всех ангелов и демонов, сидящих в этом кафе, за предоставленный повод уединиться, пребывая среди толпы.
– Разрешите, сударыня?
Его глубокий баритон не завис в воздухе, подобно гигантскому вопросительному знаку, а лёг на ставшее осязаемым пространство картой. То ли визиткой, на которой мелкий шрифт многообещающе делится секретами, а крупный снисходительно помалкивает. То ли банковской, чьи реквизиты намекают на самодостаточность и отсутствие глупого ухарства. То ли королём пик, решившим не использовать крап в делах куртуазных, чтобы не спугнуть червонную даму наглым шулерством. То ли куском пергамента, в который завернули золотого жука, обветренный череп и сундук старика Кидда[3]. То ли бескрайней чёрной пустотой, в которой сталкиваются галактики и разбегаются кометы, умирают планеты и рождаются звёзды, болтают о пустяках боги и важничают бабочки-однодневки.
– Извольте, сударь! – незнакомка легко подхватила игру, словно край длинного платья – шёлкового, цвета тёмного янтаря, заставляющего женское тело жмуриться от удовольствия.
Алекс быстро засунул под стол длинные ноги, стараясь не прижиматься чёрно-белыми кроссовками к туфелькам, которые не стояли чинно и благопристойно, а покачивались на скрещенных в лодыжках стройных ножках. Он решил было начать общую трепотню, которую не раз преподносил под грифом «Только для тебя, любимая» очередной претендентке на роль «полугодовой жены». Но слова застряли у него в горле, запершили крошками зачерствевшего сыра, оползли студнем, в котором, кроме плотного жира, не наблюдается ни лохмотьев говядины, ни кружков варёной моркови, ни аппетитно-прозрачного бульона. На него в упор смотрела женщина из его видений. Глаза, чья зелень менялась ежесекундно, переходя от свежести майского тополиного листа к темноте морских глубин, от переливов полярного сияния к колумбийскому изумруду, были откровенны и насмешливы. Казалось, они говорили: «Ещё один бегун на короткую дистанцию! Воспарит над невежеством мира, стряхнёт пыль странствий с пропеллера и лаковых штиблет, обналичит у финиша-банкомата средства на спасение Сократа от цикуты и устремится к следующему стадиону. Ха!» Она прижала чашку с кофе к губам, медленно сделала глоток и улыбнулась.
– Да вы пейте свой глинтвейн, – сказала певуче, – а то остынет и превратится в жуткий компот, искусанный специями. Чувствуется, что вы обожаете погорячее. Я права?
Алекс же смотрел на алую полоску помады, прижившуюся на краешке белой чашки. Казалось бы, след косметики и ничего больше. Но ему захотелось совпасть своими губами с этим сочным изгибом на кофейной посуде.
– Фелитта, – голос звучал нежно, словно скрипка в руках маэстро. – Можно чуть короче – Литта. Но никаких Фелечек, Фелюсей, Феечек. Моё имя чувствует себя оскорблённым, когда им манипулируют невежи. А как же вас зовут? Погодите! Я угадаю сама! Обычно мне это удаётся.
Она слегка наклонилась вперёд, и её глаза стали опасными, будто за зелёными лианами сельвы притаился чёрный зверь, смыкающий челюсти на горле жертвы молниеносно и бесшумно; зверь, гибкий и пластичный, пожирающий луну и рождающий солнце; зверь, трущийся загривком об индейские тотемы и входящий Духом в сердца шаманов.
– Ага! – прозвенело, словно ударили серебряной ложечкой по краю хрустального фужера. – Вы и попались! Теперь я знаю, кто вы, и смогу распоряжаться вашей жизнью не только по средам и воскресеньям, а… всегда.
Фелитта перевернула его левую руку ладонью вверх и пальчиком написала: «Алекс».
– Я удивлён. Мало того, я ошарашен, озадачен, шарахнут пыльным мешком из-за угла! Даже не из-за того, что моё имя перестало путешествовать инкогнито между стаканом с глинтвейном и блюдцем с пирожным. Вы повторили мои слова, которые я сказал неделю назад своей матери.
Он заглянул ей в глаза, безмятежные, как дымка, обволакивающая ранней весной верхушки берёз:
– Вы – иллюзия, которая мне снится. Сейчас проснусь, и не будет запаха миндаля, громких голосов по соседству и… тебя.
– Зачем же так преувеличивать, Алекс? Иллюзия! Ещё скажите – туманность, слепое пятно, мёртвая зона. Ха!
Она опустила греховные, влекущие глаза вниз, но не от смущения, как подумал Алекс, а лишь для того, чтобы целиком и полностью отдаться чувственному распознаванию и смакованию пирожного. Литта отломила ложечкой небольшой кусочек, полюбовалась на вишенку, втянула аромат и, прикрыв веки, отправила в рот. Замерла, чуть причмокнула губами, разложила сладость на атомы послевкусия и проглотила. Алекс, как заворожённый, смотрел на её горло, по которому метнулся сгусток удовольствия. Ещё кусочек, ещё один шабаш сладострастия, творимый у всех на виду, но понятный только им.
– Я ведьма, – тихо произнесла Фелитта и опустила пальчик в стакан с глинтвейном. – Надо же, совсем остыл. А я предупреждала!
Хлопнула входная дверь, и любительница сластей скрылась за ней. В городе уже горели фонари. В канале плюхала и слегка потрескивала вода. По Невскому бродили кошки, музыканты и влюблённые.
– Встречи назначаются на границе миров, – возбуждённо сказал очередной поклонник эзотерики, терзающий листы «Агни-йоги» у входа в Дом Зингера.
«Я назначаю тебе встречу, зеленоглазая», – подумал Алекс и услышал, как ветер с Невы ответил:
– Приду…
Глава третья
Ночь приволокла в коробке чёртову дюжину серых кошек и вывалила их посреди гостиной. Вопя, они расползлись по углам и затаились там плоскими тенями, чихая от пыли, которую Алекс так и не удосужился вытереть. Два дня, миновавшие после странной встречи в кафе, были затяжными, словно знаменитая питерская непогода, о которой синоптики гордо сообщают: «Переменная облачность. Ожидаются короткие дожди».
– Короткие, знаете ли, – буркнул Алекс, подвесив синий зонт на крюк – тройную башку Цербера, торчащую из балконной стены.
С зонта закапало, и вскоре на полу образовалась лужица, в которой при желании можно было пускать бумажные кораблики, не страшась, что они налетят на рифы или напорются на трезубец Посейдона. Шмякнув швабру в воду, Алекс проворно растёр её по всему балкону, посчитав сие деяние за начало грандиозной уборки.
– На сегодня всё, – он демонстративно встряхнул руками, не разрешая грядущему Орднунгу[4] посягнуть на конституционное право гражданина – дрыхнуть без задних ног.
Сотворив кофе, Алекс плеснул в него грамулю бальзама, привезённого приятелем из Карелии, загрузил музыку и разлёгся на диване, подсунув под локоть рыжую, лохматую подушку. Саксофон всхлипнул, разуверился в смысле жизни, вновь воскрес, чтобы слиться с хриплым голосом старого негра. Они раскачивали сумрак, будто качели, состряпанные из покрышки и верёвки, привязанной к толстой ветке вяза. Мир расплывался, переворачивался, хлопал крыльями и зарывался в землю. Мелодии сменяли друг друга. К саксофону добавились труба и флейта. За окном взвыла сирена скорой, доказывающая почти пустому проспекту значимость каждой секунды. Жёлтым совиным глазом замигал светофор, вообразивший себя Циклопом, повелевающим не козьим стадом, а достоянием Кроноса – временем.
Кошачья тень выросла на стене, вздыбила спину китайским мостиком, напружинила хвост и… вышла под скромный свет ночника женщиной.
– Я хотела было пройти мимо, – мурлыкнула она, сбрасывая на ходу туфли, – но меня окликнул Армстронг, который не мог допустить, чтобы мужчина в одиночестве слушал джаз и поглощал алкоголь, подменяя им хороший секс.
«Опять видение началось», – подумал Алекс и приготовился к тому, что сейчас замелькают ускользающие дрянные двери и судьба, словно турникет, ударит под коленки, заставив почувствовать себя лакеем, не ведающим, что можно ожидать от властного хозяина.
Фелитта, пританцовывая, прошлась по комнате, почесала за ухом дремлющего кота, поменяла местами Эдгара По и Джованни Боккаччо, наклонила влево абстрактную картину и вновь обратила внимание на хозяина.
– Ты что такой кислый, будто тебя приговорили к поеданию винегрета, который запасли тазиком на все новогодние каникулы? Кстати, терпеть не могу эту повальную одинаковую готовку: оливье, винегрет, селёдку под шубой. А также всеобщие радости: роллы, икру, устриц, вонючие сыры и коньяк. К ним же отношу однообразный секс, чулки, пустые разговоры и призывы к спасению.
Её озорные глаза потемнели, когда Алекс наконец-то поверил в реальность происходящего и уселся на диване.
– Потанцуем? – она протянула тонкую, изящную руку.
И не двигалась с места, пока Алекс не оказался рядом с ней. Прижавшись к нему бёдрами, она немного отклонилась назад, чтобы не отрываться взглядом от его лица. Красное облегающее платье, скрывающее её сверху, демонстрировало стройные ноги, обтянутые колготками цвета мокко.
«Костёр, – подумал он. – Нет, пожар, огненный дьявол, рыже-красное безумие, которые она выплёскивает на меня, сжигая своей Силой и заставляя ответно гореть, желая не привычного расслабления и утоления похоти, а взрыва атомной станции, от которого мы станем ничем и всем».
Алекс повернул Литту спиной к себе и расстегнул молнию на платье. Она повела плечами, и платье соскользнуло вниз. Кружевной бюстгальтер, хитроумно закреплённый на четыре ряда петель, Алекс размыкал не спеша, целуя между лопатками, ощущая, как дрожь пробегает по её позвоночнику снизу вверх. Его руки легли на упругие ягодицы, и он, слегка досадуя на помеху, стащил кофейные колготки. Оба уже не могли сдерживаться – за кресло упорхнули её трусики и следом его клетчатая рубаха с джинсами. Опёршись на стену, она прогнулась и застонала, когда Алекс вошёл в неё. Литта не была девственницей, но и не оказалась подобием сибирского тракта, по которому издревле гнали колодников и шалили гулящие, шли рудознатцы и безземельные крестьяне, двигались орды завоевателей и артели строителей новых поселений. Она была тугая и горячая, позволяющая ему стать одержимым, дразнящим своим фаллосом фарисеев и правоверных, задающим ритм неутомимого хвастовства, захлёбывающимся от оргазма и желающим повторения.
Они заснули под тигровым покрывалом, продолжая прижиматься друг к другу обнажёнными телами. Ночь разогнала по чужим домам серые тени, а сама уселась в кресло, чтобы гладить кота, очумевшего от пережитого потрясения.
Утром Фелитты уже не было в квартире, но на столе лежала записка: «Следующая дверь – жёлтая. Ищи!»
Глава четвёртая
Жёлтая дверь, местами обшарпанная до тёмной ржавчины на металле, распахивала своё нутро, зависала над трещинами в паркете и падала обратно, впечатывая свои откровения в незыблемость стены. Видение началось так внезапно, что Алекс едва успел втиснуть машину в узкий прогал между синей «Тойотой» и чёрно-красным монстром – байком, оскалившимся драконьими мордами. Вишнёвая «Рено-Меган», обворожительная Лейя, недовольно фыркнула, когда он не заглушил двигатель, оставив работать на холостых оборотах. Но Алекс, втащенный неведомой Силой в бездну, пляшущую на чужих костях и путающую пороги с предлогами, не заметил намёков своей любимицы и в очередной раз побежал по коридору, проваливаясь в чужие следы на цементе, на дубовых плахах, на гравии, на синей глине, цепляясь за хромоту карлика и корни секвойи, за мёртвый оскал волчьего чучела и красные губы гетеры, за рюмку с рябиновой наливкой и тридцать второй день декабря. Дверь, жёлтая, как хранилище сумасшедших или яичный желток, мелко порубленный для салата с креветками, ощерилась перед ним до самой глотки, готовая пожрать или, наоборот, отрыгнуть ранее проглоченное. Скрежет, и она замкнулась в себе чугунно и самонадеянно. Алекс замер, вспомнив слова Фелитты: «Следующая дверь – жёлтая. Ищи!»
«Что же там? – лихорадочно подумал он. – Чистилище для неврастеников, распевающих мантры, вой луппы[5], подманивающей очередного голодного мужика, или пустыня, рождающая кошмары для "пророков", комья перекати-поле и стихи о вечности? Что?»
Стена выдавливала неподатливость двери, борясь с её гаргульями, прочно разместившими свои хвостатые задницы – Нотр-Дамы и их копии – на углях для мангалов. Ещё немного, ещё… Алекс разглядел железную кровать с тряскими пружинами, полосатый тощий матрас и бородатого старика, сложившего узловатые кулаки на коленях. Байковая рубаха и ветхие кальсоны дополняли этот беспросветный облик – отражение отсутствия в жизни.
– Кто это? – крикнул Алекс и захлебнулся своим вопросом.
– Эй, братан! – кожаный байкер стучал костяшками пальцев по стеклу, озабоченно хмуря брови. – Ты там живой или уже в долину предков топаешь, обожравшись лофофоры?
Алекс с недоумением уставился на бородатую рожу, повязанную банданой.
– Фу, – с облегчением выдохнул он. – Вернулся!
Байкер ухмыльнулся и посоветовал:
– Лучше уж надраться вискаря в хорошей компании, чем гулять по дорогам заблудших душ. Смотри, в следующий раз не ломись туда, где воняет дурной смертью. Ну, будь!
Драконовый байк взревел, будто его тёзку отпустили из разноликой толпы – свиты Хуанди[6], лихо вписался в поток, толкающий Невский проспект к Московскому вокзалу, и исчез. Алекс выбрался из машины и обнаружил, что стоит напротив книжного магазина «Буквоед».
«Зайти, что ли, проветрить мозги от мистической чехарды? Купить любовный романчик для дамочек, поржать вволю и стать нормальным, взъерошенным, тридцатилетним дуралеем, глазеющим на попки, соблазнительно обтянутые тесными юбками? А, где наша не пропадала!»
Но собственные ноги почему-то шустро миновали стеллажи, на которых тесно прижимались друг к другу герои Норы Робертс и Даниэлы Стил, Джоанн Харрис и Элизабет Гилберт, и затормозили у Лабиринта, в котором новообращённые Тесеи превращались в Минотавров, а беспечные Одиссеи бродили сталкерами по мирам, заселённым по самые крыши людьми и нелюдями, торгующими остатками могущества и громадьём бессилия.
Как же, как же, опознал Алекс. «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе?» Сплошное «бе, бе, бе, бе». Стругацкие, некогда зачитываемые им до дыр; Прометеи, подсадившие печень в рваных, кухонных разговорах; кулинары, перемоловшие небожителей в кабачковую икру, чтобы намазать на ломоть заварного хлеба и схарчить сие под стопку-другую ледяной водки.
Он снял книгу с полки.
«Град обречённых». Индийцы до сих пор мудрят с реинкарнацией, а вот же она – быстротекущая, как чахотка, твердолобая, как уверенность в справедливости, мелочная, как хорёк, грызущий горло не от голода, а ради практики.
Засунул «Обречённых» обратно, растёр виски, чтобы выгнать из себя грядущего старика, истекающего жёлчью и мочой на матрас чужого успеха, непонятой радости и азартного таланта.
«Сейчас бы и, правда, как советовал байкер, дерябнуть вискаря и отделаться от "жёлтой двери”. Эх, Литта, Литта, всё твои проделки, твои чудесины, твоя чёрная кошка!»
Жгучие ладони закрыли его глаза, но он знал, чья грудь лакомо слилась с его спиной.
– Помогите! Хулиганы зрения лишают! – отчаянным шёпотом выдал Алекс и засмеялся.
Фелитта вспыхнула перед ним алым восточным маком, не до конца раскрытым, росно мокнущим сморщенными лепестками и покалывающим нетерпеливые пальцы шерстинками. Она прислонила к стеллажу два холста на подрамниках и ответила на его невысказанные вопросы:
– Да, я художник. Нет, на заказ морды лица не пишу. Да, творю картины, чтобы они жили, как люди, к которым попадут. Нет, не нуждаюсь в чужих осознаниях. Да, ловлю суть человека и дарю её обратно, но пропитанную магией преображения. Хочешь, создам для тебя Стихию? А, впрочем, пока рано. Ты ещё не все двери открыл, не всего себя нашёл. Не всю затхлую вонь от смерти почуял. А в бутылку с вискарём залезть несложно. Ап – сальто двух шутов – и ты на песке, где рассыпаны опилки и грошики. Выбирай, что тебе нужно на самом деле. И помни, я ангельские крылья не приделываю, чужую ношу на себе не тащу, обетов глупых не даю. Мне это неинтересно!
Литта обхватила его лицо ладонями и впилась в сжатые губы. Острый язычок коснулся его языка, взлетел к нёбу и прижался к шершавостям. Её поцелуй, словно укус королевской кобры, поражал до мозга костей, перекрывал дыхание и уничтожал в нём очередную часть человека, чтобы дать большее – тайну, ради которой ведьмы приходят к избранным.
Глава пятая
Тюльпан, похожий бело-зелёными разводами на полярное сияние, качнулся в руках Фелитты и ткнулся пёстрой бахромой в её губы. Она вдохнула его горьковатый аромат и прошептала:
– Что ночь для кошки?Женщина в зелёном,Что гладит воздухСомкнутым цветком.Что ночь для женщины?Всё девять жизней кошки.И смотрят в тьму бесстрастную втроём.Тень ягуара зашевелилась на стене, зацепила выпущенными когтями тень Алекса, растопырившуюся на полу, подтянула её к своему носу, старательно обнюхала и лизнула.
– Ты меня на вкус пробуешь? – ухмыльнулся Алекс. – Или выказываешь благосклонность?
– Всего понемножку, – улыбнулась зеленоглазая ведьма, играя с цветком. – Пока не куснёшь – не узнаешь о цвете крови. Не распробуешь, разве захочешь быть рядом?
Она провела пальцами по подбородку Алекса, заставляя его откинуть голову на спинку дивана. Кадык на его шее напрягся и выпятился сильнее обычного. Литта положила на него ладонь, вызывая в глотке жжение, которое поднялось вверх и ударилось о нёбо, словно о своды средневекового замка.
– Какое странное ощущение, – хрипло проговорил он, – будто во рту всё распирает.
Жжение усилилось, и Алекс схватил свою мучительницу за руку.
– Тише, дружок, тише, – мурлыкнула она. – Я могу с лёгкостью выдрать тебе глотку, но не сделаю этого. Поскольку… поскольку ты ещё не все двери открыл! Прогуляемся?
Алекс с ужасом понял, что тьма рыкающе завладевает его сознанием, чтобы бросить тварью дрожащей на свинцовый пол, похожий на обшивку груза 200.
– Девять жизней! – пропел голос Фелитты. – Столько раз мы с тобой сталкивались в прошлом. Пришло время вспомнить.
– Изгоняешься ты, Велеслав, из дома своего, от любого порога городища, от пира и от тризны, от матери, родившей тебя, и от той, что принесла бы детей тебе. Нет на тебе больше оберегов предков и защиты ратной! Иди прочь, лихоимец, отрешившийся от богов, от их гнева и милости! От этого дня и поныне твоё имя под запретом. Ни одно дитя не получит его, ни одна жёнка не позовёт, ни один воин не признает родным.