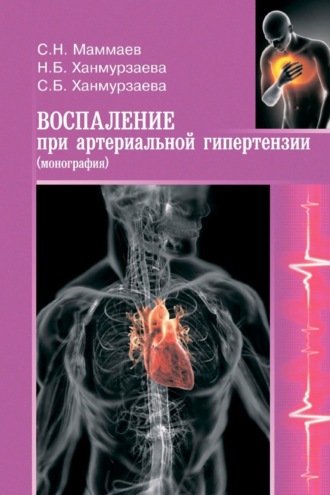 полная версия
полная версияВоспаление при артериальной гипертензии. Монография
Таблица 10
Уровень вчСРБ (пг/мл) в крови больных с достигнутыми целевыми уровнями АД исходно и на фоне проводимой терапии
Исходно
Через 3 мес.
Динамика
р
Группа 1
(n = 52)
0,71
(0,52-0,93)
0,63
(0,45-1,03)
_
ns
Группа 2
(n = 41)
1,42
(0,75-1,78)
1,24
(0,58-1,72)
_
ns
Группа 3
(n = 56)
1,37
(0,91-2,21)
1,22
(0,65-1,54)
↓
< 0,05
Примечание: статистически значимые изменения уровней исследуемых маркеров на фоне терапии относительно исходных значений выделены жирным шрифтом и отмечены стрелками.
Сравнение содержания вчСРБ у пациентов исходно и через 3 месяца от начала терапии производилось с использованием W-критерия Уилкоксона для зависимых выборок. Снижение уровней показателя наблюдалось во всех группах, статистической значимости достигли различия исходно и на фоне терапии в группе 3 (1,37 пг/мл (0,91-2,21) против 1,22 пг/мл (0,65-1,54), р = 0,032).
Динамика значений МСР-1 в группах на фоне проводимой терапии представлена в таблице 11.
Таблица 11
Уровень МСР-1 (пг/мл) в крови больных с достигнутыми целевыми уровнями АД исходно и на фоне проводимой терапии
Исходно
Через 3 мес
Динамика
р
Группа 1
(n = 52)
55,7±8,6
45,2±7,4
↓
р < 0,05
Группа 2
(n = 41)
74,4±12,7
61,5±12,4
↓
р2 < 0,05
Группа 3
(n = 56)
90,2±7,8
88,4±8,9
_
ns
Примечание: статистически значимые изменения уровней исследуемых маркеров на фоне терапии относительно исходных значений выделены жирным шрифтом и отмечены стрелками.
Распределение значений МСР-1 внутри групп пациентов исходно и через 3 месяца от начала терапии соответствовало нормальному характеру распределения (соответствие нормальному закону распределения проверялось с использованием критерия Шапиро-Уилка, уровень значимости для всех групп p > 0,05), данные в тексте и таблицах представлены как среднее ± стандартное отклонение, и дальнейший анализ производился с помощью параметрических критериев. Сравнение содержания МСР-1 у пациентов исходно и через 3 месяца от начала терапии производилось с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Снижение уровней показателя наблюдалось во всех группах, статистической значимости достигли различия значений исходно и на фоне терапии в группе 1 и 2 (55,7±8,6 пг/мл против 45,2±7,4 пг/мл, р = 0,041 и 74,4±12,7 пг/мл против 61,5±12,4 пг/мл, р = 0,022 соответственно) (табл. 11).
Динамика значений IP-10 в группах на фоне проводимой терапии представлена в таблице 12.
Распределение значений IP-10 внутри групп пациентов исходно и через 3 месяца от начала терапии соответствовало нормальному характеру распределения (соответствие нормальному закону распределения проверялось с использованием критерия Шапиро-Уилка, уровень значимости для всех групп p >0,05), данные в тексте и таблицах представлены как среднее ± стандартное отклонение, и дальнейший анализ производился с помощью параметрических критериев. Сравнение содержания IP-10 у пациентов исходно и через 3 месяца от начала терапии производилось с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых выборок, статистически значимых различий получено не было (табл. 12).
Таблица 12
Уровень IP-10 (пг/мл) в крови больных с достигнутыми целевыми уровнями АД на фоне проводимой терапии
Исходно
Через 3 мес.
Динамика
р
Группа 1
(n = 52)
188,4±17,2
185,3±19,4
_
ns
Группа 2
(n = 41)
233,6±16,6
228,6±18,4
_
ns
Группа 3
(n = 56)
309,2±15,4
321,6±19,1
_
ns
Примечание: статистически значимые изменения уровней исследуемых маркеров на фоне терапии относительно исходных значений.
Динамика содержания ИЛ-10 в группах на фоне проводимой терапии представлена в таблице 13.
Для исследования динамики ИЛ-10 использовался критерий Мак-Немара. У больных с достигнутыми на фоне лечения целевыми уровнями АД отмечено повышение уровня ИЛ-10, зарегистрированное как увеличение частоты детекции этого показателя у пациентов 2 и 3 групп по сравнению с исходными значениями (15 (30,7%) против 8 (15,9%), p = 0,066 и 18 (32,1%) против 10 (16,7%), p = 0,026 соответственно) (табл. 13).
Таблица 13
Частота детекции ИЛ-10 (%) в крови больных с достигнутыми целевыми уровнями АД исходно и на фоне проводимой терапии
Исходно
Через 3 мес.
Динамика
р
Группа 1
(n = 52)
9 (16,7%)
10 (21,5%)
_
Группа 2
(n = 41)
8 (15,9%)
15 (30,7%)
↑
p = 0,066
Группа 3
(n = 56)
10 (16,7%)
18 (32,1%)
↑
p < 0,05
Примечание: статистически значимые изменения уровней исследуемых маркеров на фоне терапии относительно исходных значений выделены жирным шрифтом, и отмечены стрелками.
Для оценки выраженности изменений показателей на фоне проводимой терапии использовалась характеристика дельта (Δ) – разница между исходным и конечным значениями показателя у каждого пациента. Распределение значений некоторых показателей (в частности, ΔСАД и ΔДАД) не соответствовало нормальному характеру распределения (соответствие нормальному закону распределения проверялось с использованием критерия Шапиро-Уилка, уровень значимости составил для обозначенных показателей p <0,05), поэтому данные в тексте и таблицах представлены как медиана (25-й – 75-й перцентиль), и дальнейший анализ производился с помощью непараметрических критериев. Корреляции оценивались при помощи критерия Спирмена, жирным шрифтом отмечены статистически значимые связи параметров.
Закономерна выявленная прямая корреляция степени изменения САД (ΔСАД) и ДАД (ΔДАД) (r Спирмена = 0,39, p <0,05) у пациентов на фоне приёма антигипертензивной терапии. Прямая корреляция между содержанием показателей липидного спектра и глюкозы также может быть объяснена проведением лечебных мероприятий. Отмечена прямая корреляция средней силы между изменениями содержания вчСРБ (ΔСРБ) и МСР-1 (ΔМСР-1) (r Спирмена = 0,34, p <0,05). То есть, чем более значимы изменения одного маркёра воспаления, тем более значимы изменения другого маркёра воспаления.
Обращает на себя внимание обратная корреляция средней силы между выраженностью снижения САД (ΔСАД) и МСР-1 (ΔМСР-1) (r Спирмена = -0,49, p <0,05). Другими словами, чем более было выражено уменьшение АД на фоне терапии, тем менее значимые изменения содержания указанных маркёров воспаления имели место.
Межгрупповое сравнение выраженности изменения упомянутых характеристик в трех независимых группах производилось с использованием метода ANOVA по Краскалу-Уоллису, при наличии различий (p <0,05) дополнительно производилось попарное межгрупповое сравнение с использованием U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок. Данные представлены в таблице 14.
Выявлено, что ΔСАД и ΔДАД были значимо выше у пациентов группы 3 (что объясняется большей исходной степенью повышения давления) по сравнению с группами1 и 2, а ΔСАД была значимо больше также у пациентов группы 3 по сравнению с группой 1.
В то же время ΔМСР-1 у пациентов группы 3 на фоне терапии оказалась меньше, чем у пациентов групп 1 и 2 (4,6 пг/мл (4,3–5,2) против 116, пг/мл (9,5 – 23,7) и 12,7 пг/мл (9,6 – 12,9), соответственно, p1/3 < 0,01, p2/3 < 0,01).
Таблица 14. Корреляционные зависимости между параметрами, характеризующими динамику показателей на фоне терапии
ΔСАД
ΔДАД
ΔХС
ΔЛПНП
ΔТГ
ΔГЛ
ΔСРБ
ΔМСР-1
ΔIP-10
Примечание: в таблице представлены значения коэффициента корреляции r Спирмена между параметрами, статистически значимые связи выделены жирным шрифтом. ГЛ – глюкоза.
ΔСАД
1,00
0,39
0,11
0,13
0,19
–0,10
–0,19
-0,49
–0,14
ΔДАД
0,39
1,00
0,10
0,15
0,05
–0,04
–0,07
–0,25
–0,12
ΔХС
0,11
0,10
1,00
0,22
0,16
–0,17
0,15
0,18
0,07
ΔЛПНП
0,13
0,15
0,22
1,00
0,44
0,01
–0,20
0,09
0,08
ΔТГ
0,19
0,05
0,16
0,44
1,00
–0,25
0,13
0,17
0,15
ΔГЛ
–0,10
–0,04
–0,17
0,01
–0,25
1,00
–0,04
–0,07
0,13
ΔСРБ
–0,19
–0,07
0,15
–0,20
0,13
–0,04
1,00
0,34
0,17
ΔМСР-1
-0,49
–0,25
0,18
0,09
0,17
–0,07
0,34
1,00
0,24
ΔIP-10
–0,14
–0,12
0,07
0,08
0,15
0,13
0,17
0,24
1,00
Значимых различий в степени снижения вчСРБ и IP-10 в группах получено не было (табл. 15).
Таблица 15
Динамика показателей в группах на фоне проводимой терапии
Группа 1
Группа 2
Группа 3
р
n
52
41
56
ΔСАД, мм рт. ст.
40 (35-40)
50 (40-50)
70 (60-80)
p1/2 < 0,01
p1/3 < 0,01
p2/3 < 0,05
ΔДАД, мм рт. ст.
20 (20-25)
30 (25-30)
30 (25-30)
p1/2 < 0,05
p1/3 < 0,01
p2/3 = ns
ΔХС, ммоль/л
0,4 (0,4–0,5)
0,4 (0,2–0,7)
0,6 (0,4–1,0)
ns
ΔЛПНП, ммоль/л
0,5 (0,3–0,5)
0,6 (0,3–0,7)
0,6 (0,3–0,7)
ns
ΔТГ, ммоль/л
0,3 (0,2–0,4)
0,2 (-0,1–0,4)
0,1 (0,0–0,3)
ns
ΔГЛ, ммоль/л
0,4 (0,3–0,4)
0,3 (0,3–0,4)
0,5 (0,2–0,6)
ns
ΔСРБ, пг/мл
0,13
(0,11–0,24)
0,19
(0,12–0,25)
0,15
(0,10–0,17)
ns
ΔМСР-1, пг/мл
11,6
(9,5–23,7)
12,7
(9,6–12,9)
4,6
(4,3–5,2)
p1/2 = ns
p1/3 < 0,01
p2/3 < 0,01
ΔIP-10, пг/мл
4,6
(1,8–7,9)
5,4
(2,7–7,6)
3,2
(0,7–8,2)
ns
Примечание: ГЛ – глюкоза.
Клинический пример 5.
У пациента Р. с диагнозом «АГ I стадии, 2 степени, риск ССО 3. Избыточный вес» (группа 1) на фоне терапии (диротон 5 мг/сут., метопролол 25 мг/сут., арифон 1,5 мг/сут.) и нормализации АД отмечено снижение уровней вчСРБ с 0,44 пг/мл до 0,35 пг/мл, МСР-1 – с 48,7 пг/мл до 38,5 пг/мл, IP-10 – c 175,6 пг/мл до 166,8 пг/мл.
У пациента М. с диагнозом «АГ II стадии, 3 степень, риск ССО 3. Абдоминальное ожирение III степени. МС» (группа 2) на фоне терапии (конкор 5 мг/сут., арифон 1,5 мг/сут., микардис 40 мг/сут., тромбоАСС 50 мг/сут.) и нормализации АД отмечено снижение уровней вчСРБ с 1,71 пг/мл до 1,62 пг/мл, МСР-1 – с 74,6 пг/мл до 66,5 пг/мл, IP-10 – c 229,5 пг/мл до 226,5 пг/мл.
У пациента Г. с диагнозом «ИБС: стенокардия напряжения III ФК. Хроническая сердечная недостаточность II ФК. Недостаточность кровообращения 2а. АГ III стадии, 3 степени, риск ССО 4, с поражением сердца, ангиопатией сетчатки. Ожирение I степени» (группа 3) на фоне терапии (конкор 5 мг/сут., фуросемид 20-40 мг/сут., верошпирон 50 мг/сут., микардис 40 мг/сут., кардикет по 40 мг 2 раза в сут., тромбоАСС 100 мг/сут., аторвастатин 10 мг/сут.) и нормализации АД отмечено снижение уровней вчСРБ с 1,25 пг/мл до 1,11 пг/мл, МСР-1 – с 89,7 пг/мл до 85,1 пг/мл, IP-10 – c 296,7 пг/мл до 293,5 пг/мл, ИЛ-10 оставался ниже уровня детекции.
Данные примеры иллюстрируют динамику уровней вчСРБ и МСР-1 на фоне проводимой терапии, в то время как содержание IP-10 оставалось практически без изменений. Указанные закономерности подтвердились при статистической обработке данных всех пациентов выборки.
Таким образом, достижение целевых уровней АД на фоне антигипертензивной терапии сопровождается снижением концентрации провоспалительных маркеров вчСРБ и МСР-1 и повышением уровня противовоспалительного маркера ИЛ-10, существенной динамики уровня IP-10 не выявлено. Степень снижения МСР-1 на фоне проводимой терапии и достижения целевых значений АД была наименьшей у пациентов с ЭАГ 3 стадии.
Пациентам с ЭАГ независимо от стадии заболевания рекомендовано исследование вчСРБ, МСР-1 и IP-10 и ИЛ-10 и контроль указанных показателей в динамике на фоне проводимой терапии для стратификации риска ССО. При оценке полученных результатов необходимо принимать во внимание влияние наличия МС на уровни МСР-1 у пациентов с ЭАГ 1 и 2 стадии и вчСРБ у пациентов с ЭАГ 2 и 3 стадии.
Отсутствие значимой положительной динамики маркёров воспаления (особенно МСР-1) на фоне проводимой терапии с достигнутыми целевыми значениями АД может служить признаком наличия клинически значимого ПОМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АГ является чрезвычайно важной проблемой ввиду высокой распространённости (по различным данным, около 30-40% населения развитых стран страдают ЭАГ) и отсутствия эффективного контроля АД (как вследствие подбора неоптимальных схем терапии, так и плохой приверженности пациентов к длительному лечению). АГ является причиной нарушения функции жизненно важных органов (сердце, почки, головной мозг) и фактором риска развития других ССЗ (в первую очередь, ИБС). Несмотря на большое количество данных, свидетельствующих о вовлечении в патогенез АГ различных органов и систем (повышение сосудистого сопротивления, увеличение объёма циркулирующей крови, нарушение почечной функции), единый механизм, связывающий все звенья, остаётся неясным. В настоящее время пристальное внимание уделяется роли системной воспалительной реакции в патогенезе ЭАГ и развитии ПОМ. Проявлениями системной воспалительной реакции могут служить накопление клеток иммунной системы в стенке артерий, подвергающихся ремоделированию, а также повышение уровней провоспалительных молекул (СРБ как острофазного маркёра воспаления, цитокинов и хемокинов), растущих с увеличением степени повышения АД и при вовлечении в патологический процесс органов-мишеней. В настоящее время предметом изучения исследователей стали так называемые плейотропные эффекты различных классов антигипертензивных препаратов, которые, помимо основного гипотензивного эффекта, обладают противовоспалительными эффектами и подавляют хроническое вялотекущее воспаление и ремоделирование сосудистой стенки. Маркёры воспаления могут служить незаменимым подспорьем в диагностике ЭАГ, определении стадии заболевания и эффективности проводимой терапии.
В последнее время взгляд исследователей устремлён на роль системного и местного воспаления в патогенезе АГ. Воспалительные процессы могут вызывать изменения в функции миокарда, периферическом сопротивлении и почечных механизмах контроля уровней электролитов плазмы и объёма циркулирующей крови. Кроме того, воспалительные факторы могут играть роль в развитии дисфункции эндотелия и атерогенезе. В ряде работ подчёркивалась взаимосвязь уровня про– и противовоспалительных цитокинов (ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-10, МСР-1), молекул клеточной адгезии и других маркёров воспаления (СРБ, фибриноген) со степенью АГ и ПОМ ЭАГ (сосудистой стенки, миокарда, почек) [161].
СРБ является наиболее изученным провоспалительным маркером, неспецифически отражающим общий воспалительный фон в организме, связанный с ПОМ ЭАГ и АКС [15, 23, 37, 47]. В большом количестве исследований показана неблагоприятная прогностическая значимость СРБ в определении исхода ССЗ. В исследованиях TNHANES [51] и WHS [204], включивших 9867 и 15215 больных соответственно, была выявлена тесная взаимосвязь между содержанием СРБ в крови и развитием ЭАГ и ее осложнений. В российской популяции продемонстрированы подобные взаимосвязи [42].
Выявленные нами более высокие значения вчСРБ у пациентов с ПОМ и наличием АКС (группы 2 и 3) по сравнению с группой 1 согласуются с данными литературы и могут свидетельствовать о репрезентативности обследованной выборки больных ЭАГ при исследовании взаимосвязей между воспалительными процессами и тяжестью течения ЭАГ.
МСР-1 является основным хемотаксическим цитокином, обеспечивающим привлечение клеток иммунной системы, в первую очередь моноцитов и гранулоцитов, в очаг воспаления. В литературе широко освещена роль МСР-1 в прогрессии и дестабилизации атеросклеротического процесса. В клинических исследованиях продемонстрировано, что экспрессия МСР-1 увеличена у больных с повышенным АД, атеросклерозом [195]. Повышение его уровня также связано с увеличением риска неблагоприятного исхода у пациентов с ИБС [134]. В нашем исследовании также показано увеличение уровня МСР-1 в сыворотке крови у пациентов с ЭАГ и АКС по сравнению с пациентами без ПОМ. Полученные нами результаты могут свидетельствовать о преимущественном участии МСР-1 в развитии АКС атеросклеротического генеза у обследованных больных.
Участие Т-клеточного звена в патогенезе ЭАГ в настоящее время широко исследуется и обсуждается в мировой литературе [106]. IP-10 является мощным хемоаттрактантом для активированных лимфоцитов, которые преимущественно локализуются в растущих и нестабильных атеросклеротических бляшках [108]. По данным ряда работ, повышение его уровня, в том числе в сочетании с повышением уровня МСР-1, свидетельствует о наличии коронарного атеросклероза и связано с риском развития ИБС [56, 190]. Полученные в настоящем исследовании результаты – прогрессивное увеличение содержания IP-10 при развитии ПОМ и АКС АГ – подтверждают данный факт.
В то же время отсутствие значимых различий в частоте детекции ИЛ-10, являющегося основным цитокином, посредством которого регуляторные лимфоциты осуществляют противовоспалительное действие, может быть обусловлено недостаточной чувствительностью метода определения ИЛ-10 в сыворотке крови.
Изменения сосудистой стенки и миокарда (ремоделирование, гипертрофия) при АГ являются следствием длительной активации РААС. В то же время повреждение эндотелиальных клеток и эндотелиальная дисфункция в результате действия повышенного АД также приводят к усилению миграции провоспалительных клеточных элементов в сосудистую стенку и синтеза провоспалительных цитокинов, что в конечном итоге является одним из провоцирующих факторов развития атеросклероза. Если определение ИММ ЛЖ может являться чётким критерием наличия или отсутствия гипертрофии миокарда ЛЖ, то выявление и разграничение ремоделирования сосудистой стенки и субклинического атеросклеротического поражения артерий представляет более сложную задачу. В настоящее время стандартом диагностики и одним из критериев выделения пациентов с I и II стадиями АГ считается проведение УЗДС брахиоцефальных (и в частности, сонных) артерий и выявление утолщения комплекса интима-медиа или атеросклероза. В то же время выделение пациентов с III стадией ЭАГ проводится преимущественно на основании клинических данных (наличия симптомов стенокардии или перемежающейся хромоты, клиники транзиторных ишемических атак). Указанные различия критериев разделения пациентов на группы и техническая невозможность проведения полного комплекса исследований сердечно-сосудистой системы могут оказывать влияние на полученные в настоящей работе результаты.
Логичной представляется взаимосвязь между количеством поражённых атеросклерозом сосудов и уровнем маркёров воспаления в плазме крови, подтвержденная в ряде исследований [114, 142]. Исследователи обращают внимание на маркёры воспаления и дисфункции эндотелия как на ранние проявления, предшествующие развитию атеросклероза сосудов [16, 18]. Дальнейшее изучение указанных маркёров воспаления при АГ позволит разработать критерии выделения пациентов с наиболее высоким риском развития ПОМ или АКС, которым необходимо провести углублённое исследование сердечно-сосудистой системы и начать лечение на ранних этапах.
Проблема раннего выделения пациентов группы риска является ключевой в современной кардиологии [52, 203, 231]. Связанные с АГ субклинические изменения в различных органах-мишенях указывают на прогрессирование развития ССЗ, что заметно увеличивает риск по сравнению с просто наличием факторов риска. Из инструментальных методов диагностики, позволяющих выявить ранние изменения артериальной стенки, связанные с эндотелиальной дисфункцией, следует отметить определение жёсткости артериальной стенки по скорости пульсовой волны и тест с реактивной гиперемией. В то же время данные о прогностической значимости данных методик противоречивы [118, 166, 175, 185, 208, 242]. УЗДС брахиоцефальных артерий с определением ТИМ также активно используется в клинической практике, хотя его прогностическая значимость до конца не определена [244]. Ведущими лабораториями мира ведутся поиски новых маркёров, рано реагирующих на начавшиеся субклинические изменения в организме. Настоящее исследование дополняет представления, сложившиеся о маркёрах воспаления как показателях, отражающих ранние изменения сосудистой стенки [9].
МС является одним из важнейших факторов риска и неблагоприятного прогноза ЭАГ [245]. АГ является наиболее распространённым заболеванием в развитых странах, в развивающихся странах мира заболеваемость ею также стремительно возрастает, особенно у городских жителей. Исследователи предполагают, что распространение западного образа жизни приводит к увеличению количества лиц с абдоминальным типом ожирения [146]. У пациентов с избыточным количеством висцерального жира выявлено повышение содержания провоспалительных цитокинов [1, 20, 40, 98, 100]. Взаимосвязь ИМТ и повышенного уровня СРБ была неоднократно подтверждена в исследованиях, посвящённых АГ и МС у детей и взрослых [79, 99, 144, 145]. Исследователи C.K. Wu с соавторами (2012) показали взаимосвязь между центральным ожирением, маркёрами воспаления (в частности, СРБ) и диастолической дисфункцией миокарда ЛЖ у пациентов старше 30 лет. Авторы пришли к выводу, что большое количество жировой ткани приводит к развитию системного вялотекущего воспаления, что влечёт за собой ремоделирование ЛЖ [238].
В литературе описано влияние наличия МС на содержание циркулирующих маркёров воспаления. В настоящем исследовании был проведён анализ содержания СРБ, МСР-1, IP-10 и ИЛ-10, в зависимости от наличия или отсутствия МС, для определения влияния МС на указанные показатели у пациентов с АГ. Согласно результатам нашего исследования, СРБ также оказался повышенным у пациентов с МС по сравнению с теми, у кого МС не был диагностирован, особенно у пациентов групп 2 и 3, что ещё раз подтверждает вышеописанные находки. В то же время в работе получены интересные данные насчёт раннего повышения такого провоспалительного показателя, как МСР-1, у пациентов с начальными стадиями АГ и МС. Так, МСР-1 является чувствительным маркером МС уже у больных в группе 1, а его уровень у больных МС в группе 2 не отличается от значений в группе 3.
Из литературы также известно, что экспрессия МСР-1 повышена в адипоцитах [143]. Таким образом, уровень МСР-1 может представлять собой дополнительный фактор риска развития ИБС и ее осложнений, а также служить маркёром, позволяющим выделить пациентов с более высоким риском осложнений уже на ранних стадиях АГ.
Хорошо известна тесная взаимосвязь между высокими значениями АД и риском развития ПОМ и АКС, из которых наиболее значимыми являются ИМ и МИ. Хотя измерение АД в медицинских учреждениях до сих пор остаётся основным способом контроля АГ, этот метод является недостаточно эффективным. Амбулаторный контроль АД, осуществляемый при помощи СМАД, обеспечивает более точную оценку АД и его суточного ритма. Кроме того, показатели СМАД коррелируют с наличием ПОМ, вызванным АГ, а также имеют большую прогностическую значимость в отношении риска ССЗ по сравнению с показателями "офисного" АД, как было указано выше. Это позволяет более корректно назначать антигипертензивную терапию и совершенствовать прогнозирование развития ССО.

