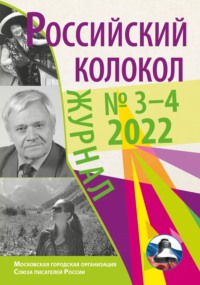Полная версия
Журнал «Юность» №12/2022
– Буду! Веди!
Марина с сумкой в одной руке подскочила к Наде, другой сжала ее ладошку.
– Надя! Что за капризы?! Ты как себя ведешь?!
– Тише, тише, Марина Ивановна, все хорошо! – Василич похлопал Марину по плечу. – Значится, так! Проходим, размещаемся!
Марина не понимала, что происходит. Равно как и вся остальная смена. Угрюмые, напряженные, где-то даже недовольные. Все чувствовали приближающуюся дрожь. Даже несмотря на тектонические сети и отводы. Земля под ногами колебалась. Связь под землей работала плохо. Каждый гадал, где прорыв случится на этот раз. Девятый? Или вслед за ним сразу будет десятый? Одиннадцатый? Сколько тефры выбросит в воздух Кракен сегодня? Будут ли выбросы лавовых игл? Разнесет ли газовый поток очередную детскую площадку или киоск?
И лишь трое из этой толпы выглядели заправскими заговорщиками.
– Пр-роходим! – Надин голос пролетел над толпой. – Мы пр-риглашаем вас на нашу новогоднюю р-р-репетицию!
Василич распахнул ангарные двери, и перед работниками открылся сияющий блеском разноцветных гирлянд новогодний зал. В центре возвышалась ель, собранная из труб и крашенного в зеленый цвет картона. По стенам разлетелись вырезанные детской рукой снежинки. И бумажные гирлянды. А еще всевозможные разномастные шарики, бусы, хлопушки и мишура.
Марина почувствовала, как в груди защемило, а в глазах защипало. Замутненным взглядом она обвела собравшихся. На лицах читалось недоумение, непонимание и робкая надежда.
– Надежда! – скомандовал директор. – Ну-ка, покажи пример! Вставай под елку! Рассказывай стишок!
Надя вприпрыжку бросилась к елке, не обращая внимания на дрожь пола под ногами и легкое дребезжание окружающего мира. Встала у зеленого конуса и звонко затянула:
В Новый год во все глазаКаждый смотрит в чудеса!А они глядят в ответ —Есть желанье или нет!Важно всем не опоздатьИ желанье загадать!– Дед Мороз ко всем придет… – Надя запнулась, и кто-то из толпы выкрикнул:
– И подарки принесет!
– Правильно! – захлопала в ладоши Надя. – Вы следующий!
Слесарь из третьего цеха стушевался, замялся, но Надя уже подскочила к нему и потянула к елке.
– Да я это… Как-то и не знаю, старый уже, забыл…
– А про маленькую елочку знаете? – не сдавалась Надя.
– Да знаю, наверное…
– Я помогу! Мы в садике учили! Давайте вместе! Ма-а-аленькой е-е-елочке…
– Холодно зимой, – запели сразу несколько женщин из третьего ряда.
– Из лесу елочку взяли мы домой, – подключились директор с Василичем.
И через несколько строк уже все, кто был в убежище, распевали детскую новогоднюю песню. А к третьему куплету завели хоровод возле зеленого картонного конуса, имитирующего елку. Под свет гирлянд, подключенных к аварийным генераторам, чтобы точно не погасли, если все вокруг обесточится. Под аккомпанемент дребезжащих стен и гул, доносящийся из недр.
Все они водили хоровод и ждали чуда. Забытого. Казалось бы, потерявшего единственное, что давало ему право на существование, – надежду. Потерявшего и нашедшего ее в лице маленькой пятилетней девчушки, так упорно требующей этого самого чуда. Верящей в него всем своим сердцем и всей душой.
Все они ждали чуда, не веря в него. Погрузившись во мрак и отчаяние, в беспросветность и серость тефры. Отдавшись во власть боли и горечи. Не надеясь ни на что. Предав его. Променяв на тьму и холод, открыв им место в сердцах и душах. Но чудо пришло.
Марина шагала в хороводе, чувствуя, как это чудо снисходит на всех собравшихся – электрическим разноцветьем, давно позабытыми, но вовремя всплывшими в памяти куплетами из детства, ощущением надвигающегося праздника. Чудо пришло, как солнце, каждый раз встающее после черноты ночи. Как новый день. Как новый год.
«Кракен успокоился. Жертв нет. Официальная информация будет утром. С завтрашнего дня в жилых районах начинают работу елочные базары. С наступающим Новым годом!»
Экраны телефонов мигали в карманах рабочей формы. Но за блеском гирлянд никто не обращал на это внимания. Директор рассказывал отрывок из поэмы Некрасова, и все слушали, затаив дыхание, про то, как Мороз-воевода дозором обходит владенья свои. А вслед за этим переходил к Пушкину, воспевая зимнее утро. И каждый знал, что следующее утро, непременно, будет укрыто утренним снегом. И снег этот когда-нибудь снова заблестит под восходящим солнцем.
Рома Декабрев
Родился в 1992 году в Твери. Окончил МИЭТ, МФТИ, живет в Зеленограде. Участник мастерских прозы в рамках образовательного форума «Таврида», а также Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки». Автор прозаических и драматургических произведений.

31 декабря
Декабрь, 31-е.
Ах, мошка-мошечка, зачем бы мне всю жизнь не щуриться заплаканными глазами, выискивая твое жужжание на фоне абажура? Я лежу у матери на коленях, она читает мне вслух «Котика Летаева», и, глядя на снежные хлопья за окном, я и сам становлюсь котиком: сворачиваюсь клубочком и, мерно покачивая полосатым хвостиком, мурчу. В полудреме прижимаю к груди заштопанную куклу – лоскутного арлекина Пьеро.
Часом ранее я не удержался и, воспользовавшись тем, что мама отошла по делам, залез под елку и открыл свой подарок. На дне коробочном в бумажной стружке лежала пестрая кукла с пышным батистовым воротником, лежала и вопрошала без слов: «Кто я?» Мое любопытство на этом не остановилось, и я достал ее на свет: вишневая в черный крап, с золотистыми пуговками: ты – Пьеро. Пользуясь случаем, я представил Пьеро стеклянным снегирям, сидящим тут же на елочных ветках, те же лишь тревожно закивали на половину шестого часов. И да, надо было бы убрать Пьеро на место, но я, вновь поддавшись искушению, решил быстренько разыграть одну цирковую партию – под куполом раскинутого меж спинок двух стульев одеяла. Что могло пойти не так? Я зажег магический фонарь и с нетерпением сделался зрителем: усач в тюрбане выдувал струи пламени, клоуны паясничали как не в себя, акробаты привычно парили на кольцах. Когда в шатер вступил Пьеро, все артисты разом побросали дела и окружили незнакомца, даже лошади не остались в стороне – приветственно отведали его манжеты на вкус; последней к новичку приблизилась бесшумной походкой Премудрая княжна с лазурным штрихом на щеке (каюсь, мой грешок): «Здравствуйте, Пьеро. Как вы могли заметить, у нас здесь цирк. Даже оркестровая яма тут имеется. Волки ездят на велосипедах, мышки танцуют балет, силачи поднимают машины. А что умеете делать вы?»
Юного арлекина смутил скорее даже не сам вопрос, но пренебрежительный тон лучезарной княжны, и потому он не только не нашелся сразу, что ответить, но и к тому же залился румянцем в цвет своего трико.
«Не говорите только, – усмехнулась она, – что краснеть – это ваш единственный талант».
Со всех сторон раздались смешки.
«Нет, не единственный, – наконец выпалил он. – Я хожу по натянутой нити… над раскрытыми ножницами!»
«О, так вы акробат? А по вам и не скажешь!»
«Это не так». Ему вдруг стало жизненно необходимо всем им что-то доказать.
«Тогда, верно, фокусник?» – спросил наглого вида клоун.
«Не больше, чем каждый из нас».
«Философ тут имеется, – постучал по заостренной шляпе косоглазый звездочет в шелковой мантии, – полезайте-ка на стул и продемонстрируйте нам свое умение».
Делать нечего, пока юный арлекин карабкался, совы умело растянули алую льняную нить над пропастью, а силачи понатаскали ножниц – всяких-разных, сколько нашлось в доме. Наконец добрался Пьеро до верху, стоит у края – поджилки руками придерживает. Снизу все уж готовые дыхание задерживать собрались, смотрят, шушукаются.
«Авось, и впрямь сможет?»
«Не сможет».
«А я думаю, сможет!»
«Что в этом такого, взял да ножками топ-топ! Я бы и на руках сумел!»
«Докажи! Ты только трепаться и умеешь!»
«С радостью… да вот незадача, только вспомнил, давеча ведь я кисть потянул, жонглируя пушечными ядрами…»
«Естественно!»
«Расшибется же, дурак!»
«Не сможет, не верю…»
«Вам когда-нибудь доводилось этим заниматься? Это на самом деле очень опасно и вовсе не обязательно», – услышал вдруг Пьеро все такой же надменный голос Премудрой девицы. Приблизившись вплотную к краю, он различил ее крошечную фигурку, очаровательно сложившую рупором ладоши перед ртом.
«Доводилось! Каждый день и каждый час!» – ответил он.
«Ладно, Пьеро, так и быть, мы вам поверили, – крикнула она куда более мягким тоном, – вам удалось нас впечатлить, теперь спускайтесь».
Этот снисходительный тон еще сильней задел его игрушечное нутро, и, оглянувшись на свою короткую пустую жизнь, он решился. Все произошло неожиданно, кажется, даже сам арлекин не до конца сообразил, как вдруг вскочил на льняную нить, быстро продвинулся по инерции шагов на пять-шесть, но затем потерял равновесие, взмахами рук безуспешно попытался нащупать центр тяжести и, издав короткий и в чем-то даже удивленный крик (получилось что-то вроде «о!»), свалился прямиком на распахнутые лезвия.
Я в этот момент сидел в первом ряду один-одинешенек, ничего не видя и не слыша, и, не способный исправить нелепую оплошность судьбы, не знал, как к этому отнестись; в отчаянье детском принялся метаться из стороны в сторону, прямо как муха на фоне пыльного абажура. Укором провожали мои метания угловатые кресла, секретер и сервант, а Пьеро лежал, выставив напоказ свои лоскутовые внутренности; вокруг него молча столпились балерины, жонглеры, предсказатели, мыши… Лишь Премудрая княжна не могла найти сил, чтобы взглянуть на тело несчастного.
«Это случится с каждым из нас», – наконец произнес кто-то негромко (то ли дрессировщик, то ли лев), а я никак не мог поверить в реальность происходящего, ощущал лишь, как всё – ширится, нарастает в душе чувством многократно превосходящей меня неизбежности… Вдруг хлопнула входная дверь – мама вернулась.
«Это несчастный случай, это несчастный случай: арлекин рухнул с натянутой нитки! У него не было страховки, почему он ее не надел?..» – закричал я, закрывая лицо руками.
Снег на маминых сапогах быстро таял; успокоив меня в объятиях, она скинула пальто, надела домашние очки и направилась к месту трагедии, чтобы оценить масштаб бедствия. Я в это время театрально наматывал круги на кухне, поедая себя изнутри и спотыкаясь о мебель. Спустя пару минут ее фигура наконец выросла на пороге: «Ничего страшного, жить будет», – заключила она и потянулась к верхнему ящику, где хранилась шкатулка с волшебными иголками и нитками, при помощи которых хмурыми вечерами она создавала из кусочков отжившей ткани персонажей для моего цирка.
На потрескавшейся и выцветшей крышке едва ли можно было различить склоненный к плечу лик пожилой женщины, укрывшей волосы платком; в этой изъеденной желтизне, казалось, таится застывшее спокойствие прошлого с его пустынными городами и переулками, наводненными манекенами, которых неспособно более касаться дуновение стрелок часов.
«Эта шкатулка досталась мне от моей бабушки, твоей прабабки», – произнесла мама ласково, целясь нитью в крошечное ушко.
«Можно эту?» – спросил я, виновато протянув ей роковой канат, натянутый над ареной.
«Как пожелаешь».
А потом она запела что-то тихо-тихо, и тревога моя окончательно отступила, отступила даже моя непоколебимая уверенность в том, что подобные травмы несовместимы с жизнью. Зашита, утолена рана, протянувшаяся от бедра до ключицы в моем воображении. Пьеро был слаб и пока не приходил в себя, но, главное, он здесь, с нами, пульс едва, но прощупывается. Я кивнул снегирям – они передадут остальным, чтобы те не волновались.
Вечереет. Я крепче прижимаю к груди арлекина, на чьем кукольном брюхе растянулся огромный алый шов, ввергающий меня в необъяснимую приятную печаль. Сквозь прищур в полусне слежу я за мошкой, что летает кругами у медового света лампочки, так и норовит сесть на стекло, но всякий раз обжигается и вновь принимается летать вокруг.
Денис Лукьянов
Родился в Москве, студент-журналист первого курса магистратуры МПГУ. Ведущий подкаста «АВТОРизация» о современных писателях-фантастах, внештатный автор радио «Книга» и блога «ЛитРес: Самиздат». Сценарист, монтажер и диктор радиопроектов на студенческой медиаплощадке «Пульс», независимый автор художественных текстов.

Вавилонское зеркало
Спи и забывай все, что было сказано,
Что в душе другой не отозвалось.
Больше твое сердце ни с кем не связано,
Отпускай его вдаль по водам грез.
Ольга ВайнерВ дом тащил все что не лень.
Старые и грузные шкафы давно уже завалил книгами, которые ни разу не открывал: так и пылились, какие – скупленные на развалах, старые, по дешевке, какие – блестящие типографской новизной и стильными обложками. С трудом закрывались ящики стола и всех комодов маленькой однокомнатной квартирки: пихал в них марки и монеты, колокольчики, дурацкие девчачьи наклейки с блестками, старые советские значки, брелоки, игральные карты, проездные и театральные билеты… Иногда сам удивлялся тому, что находил, – шахматным фигурам и давно уже не пишущим ручкам. Не выкидывал – оставлял, лишь поражаясь своей проницательности.
Сколько это продолжалось? Месяц, год, несколько лет? Потерял счет времени – впрочем, всегда считал его глупой фикцией, лишней надстройкой человеческого сознания. Никогда не был дураком. С молодости читал ученых и философов: Лосева и Платона, Эйнштейна и Спинозу, Фому Аквинского и Джозефа Кэмпбелла.
Собирал все, что несло на себе отпечаток чужих людей, – казалось, что вокруг разрастается его собственная, неповторимая вселенная.
Это ему… нравилось. Поначалу. Позже, оказалось, было нужно.
А потом – совсем не важно, когда «потом», время совсем не важно! – ему наскучило.
Старый Вацлав стал собирать личины.
Начал с банальных масок. Таскался по карнавальным магазинам, скупал все, что нравилось: силиконовые морды клыкастых чудовищ и картонные карнавальные маски звезд эстрады. Знал, что мог экономить, заказывать онлайн, но тогда все было бы зря! Какой смысл, если сам не можешь посмотреть, прикоснуться, вдохнуть спертый запах этих маленьких магазинчиков в потаенных уголках скукожившегося от декабрьских холодов городка?
Начал с масок – продолжил поддельными паспортами.
Эта была опасная игра на краю пропасти – но тем интереснее. С годами старому Вацлаву все явственней не хватало разнообразия: что же, думал, это в самом деле возраст берет свое? Разменял седьмой десяток – захотелось чего-то кардинально нового? Шагать босиком по лезвию ножа? Оставлять следы незримой золотой крови на холодном снегу? Отщипывать по кусочку от себя самого? И ладно бы, просто ум зашел за разум на старости лет, это можно понять и перетерпеть, но у новых личин было прямое назначение.
Теперь его звали Владимир и Йозеф, а еще Карл, Адам и Вениамин. Иногда выбирал имена наугад, иногда подходил к делу с извращенной элегантностью: Отто назвался в честь Бисмарка, Фридрихом – в честь Ницше, Вольфгангом – в честь Мессинга. Чужие личности – пустые, как темные стеклянные бутылки на свалке, – облепляли его мокрой листвой. Позволяли быть собой – и множеством других одновременно.
Старый Вацлав – или какое имя он выбрал сегодня? – сам становился своей коллекцией.
* * *Улицы припорошил хулигански скрипящий под ногами снег, и даже самое отвратительное – грязные подворотни и горы мусора в баках, осыпавшая штукатурка подъездов и прогнившие скамейки – сделалось сносным. Старый Вацлав шел, уткнувшись носом в колючий шерстяной шарф.
Любил Новый год. Можно было дарить подарки самому себе, а грань между чудесным и реальным, мифом и жизнью становилась такой тонкой, что грезилось – все возможно.
Стемнело. Скрюченный, укутавшийся в старое, залатанное, но теплое пальто – под ним крупно вязанный свитер, – старый Вацлав блуждающей тенью тащился под яичным светом фонарей.
Друзья и студенты говорили ему – или, может, Йозефу? – что он напоминает им бедных гоголевских героев, несчастных либо в своем отчаянии, либо в авантюрной гениальности. Но под Новый год, каждый раз, когда старый Вацлав заявлялся на кафедру скрюченный, сухонький, в том же свитере и почесывал крючковатый нос, шутили – вылитый Скрудж! И уже за спиной добавляли: такой же скряга. Тратит все на глупые безделушки, хотя денег – повезло! – куры не клюют.
Старый Вацлав лишь улыбался. Еще одна личность в его коллекцию.
Он давно уже не вел лекции: вообще почти не показывался на людях.
Завернув за угол, разглядел нужную вывеску, сверкающую подсветкой гирлянд, и толкнул дверь. Зазвенел колокольчик. Анахронизм, подумал старый Вацлав, глупый анахронизм!
Этот антикварный магазинчик его давно уже не удивлял – наведывался сюда часто, еще в той, казалось, другой жизни, когда не таскал отовсюду личины. Только вещи – и связанные с ними отпечатки: эмоции, воспоминания, ощущения. Понимал, что не сможет расшифровать их, не превратит этот немой язык в пустые трухлявые слова, – старый Вацлав и не старался; ощущал смыслы пылью на губах.
Минуя полки со старьем и пухлыми книгами – обложки сплошь старые, советские, – добрался до прилавка. Ожидал увидеть хозяина – рыжего, тучного, любившего полосатые штаны и вечно жаловавшегося, что металлические пуговицы на них отлетают и звонко катятся по полу.
Но из-под прилавка торчала лишь голова с двумя несуразными косичками. Голова отвлеклась – улыбнулась, продемонстрировав пару выпавших зубов, и защебетала:
– С наступающим!
– И вас… тебя… – Старый Вацлав смутился. Всегда ладил с детьми лучше, чем со взрослыми, просто удивился. – А где…
– Дядя Сережник пошел за горячим шоколадом. – Девочка вдруг надулась. – Только его уже долго нет! А он обещал побыстрее! Меня, кстати, Ксюша зовут!
– Очень приятно. А меня… – Старый Вацлав задумчиво забарабанил тонкими пальцами по прилавку.
– А вас? – подсказала девочка.
– А меня… зови как хочешь, да. Как хочешь.
– Но так ведь не бывает! – возмутилась девочка, но тут же забыла обо всем на свете: услышала дверной колокольчик и кинулась к толстяку с двумя картонными стаканами.
– Дядя Сережник, мы тебя тут уже заждались! А что это у тебя? Это ведь не горячий шоколад! – Ксюша, уже вцепившись в один стакан, ткнула пальцем во второй, дядин. – Это что, кофе? Я тоже хочу кофе!
– Но ты ведь просила горячий шоколад, – забасил рыжий дядя Сережник.
– А теперь я хочу кофе!
– К тому же, – будто не слыша замечаний племянницы, продолжил дядя, зачем-то загибая пухлые пальцы свободной руки, – ты еще слишком маленькая, чтобы пить кофе. Вырастешь – пей сколько влезет.
Старый Вацлав откашлялся, напоминая о себе.
– Ксюша, милая, ну чего ты, видишь, дядя ждет.
– А дядя сказал, что его можно называть как угодно! Представляешь?! – Девочка запрыгала следом, совсем не боясь задеть раритетный товар.
– Он не обманул. – Дядя Сережник вернулся за прилавок. Поставил бумажный стаканчик и обратился уже к старому Вацлаву, тут же нахмурившись: – Что на этот раз, старик? Только не вздумай…
Он взглядом указал в сторону племянницы, которая дула на карточный стакан с мордочкой оленя, даже не сняв красную крышку.
– Я собираю вещи и личности, – монотонно протянул старый Вацлав, пригладив седые волосы на лысеющей голове. – Я люблю детей. Я преподавал.
– Ты моего сына учил, знаю. Принес новое имя? И все остальное?
Старый Вацлав достал из внутреннего кармана пальто скомканную бумажку, чуть помял ее в руках, словно обдумывая нечто, и протянул хозяину лавки. Тот пробежался по ней глазами, как делал уже не первый раз. Вдруг замер, цокнул и поднял взгляд.
– Ты уверен? Раньше ты такого никогда не делал. Ты не боишься последствий, старик?
– Каких, позволь спросить?
– Юридических.
– За себя переживаешь?
– За тебя, старый дурак. Ты понимаешь, что это… ладно, дьявол с тобой. Успею к Новому году. Хотя тебе что до, что после, все одно!
– Я люблю Новый год…
– Ты любишь себя, старик, – вздохнул дядя Сережник. – Уходи. Я все сделаю.
Хозяин лавки развернулся и скрылся где-то в служебных помещениях. Старый Вацлав, вновь укутавшись в шарф – шапок не носил, – развернулся и собирался было уйти, как тут Ксюша дернула его за руку. Старый Вацлав опустил взгляд – девочка протягивала нечто, завернутое в старую газету.
– Держите, это подарок от меня! Только дяде не говорите! Он все равно продает всякую ерунду, а вы мне понравились – вы забавный! Это подарок на Новый год! Ой, ну, то есть, на наступающий! Только не открывайте раньше праздника! Оттараторив все это, девочка вернулась к горячему шоколаду. Пила, причмокивая.
Уходя, старый Вацлав услышал слова дяди Сережника:
– Не говори ты с ним лишний раз. Странный этот старик – будто сам не свой.
«Сам не свой», – подумал старый Вацлав. Как красиво сказал.
Праздника, конечно, не дождался: развернул накануне, тридцатого числа, когда на улице было не протолкнуться через толпу докупающих подарки и продукты, погрязших в суете, этой беготней созданной, – заколдованный круг. Глупая ловушка, думал старый Вацлав, к чему спешить, когда суета – ничто? И время – ничто. Все пляшет под кнут и дудку судьбы.
Фоном монотонно и неразборчиво бурчал старый телевизор, жужжал холодильник, гремели соседи сверху, смеялись в голос – снизу, а справа всегда было тихо, словно старый Вацлав жил рядом с покойниками.
В газету оказалось завернуто старенькое зеркальце в красивой серебристой оправе и с такой же ручкой, все – в форме кольцами свернувшейся змеи с длинным хвостом. Старый Вацлав и сам бы купил такое, увидь раньше, – положил бы в один из ящиков или оставил бы прямо здесь, на кухонном столе: чистом, но заваленном ненужным барахлом, от отверток до скрепок.
Старый Вацлав рассматривал свое отражение, поворачивая зеркальце то так, то этак. Смотрел на горбатый нос, который в отражении казался еще причудливей, на глубокие морщины и синяки под глазами, на потрескавшиеся губы – слишком часто облизывал на морозе. И старому Вацлаву нравилось: отличная, думал он, личность для того, чтобы вместить всю его коллекцию. Все самое интересное – там, внутри. Снаружи – дежурная маска, не отражавшая ни капли его самого.
Он покрутил зеркало в руках еще и еще – серебро блестело в свете удручающе-желтой люстры; касаясь зеркальной глади, лучи словно бы рассыпались на мелкие осколки, и потом, как витражи европейских соборов – о, у старого Вацлава были красивые книжные альбомы! – собирались вновь. Сначала это был его портрет, как и положено. Правдивый, но чуть искаженный озорным светом, а потом в отражении – нет, вокруг, везде и сразу! – вырос город, и в лицо ударил ветер, и повеяло речной свежестью, и зазеленели финиковые пальмы…
* * *…Вавилон нарядился к празднику, все семь врат великих богов были открыты, и через них стекалась по улицам незримая, неощутимая благодать, собиравшаяся на верхушке ступенчатого зиккурата Эсагилы, жемчужины старого мира.
Через город несли праздничную статую бога Мардука, и в тени этого шествия шел он, самый богатый человек в Вавилоне, но праздник его не интересовал. Он уже давно сам читал все ритуальные тексты наедине с собой, знал их наизусть, хранил нужные глиняные таблички прямо дома – не желал тратить времени. Лучше он позаботится о себе, пополнит коллекцию немыслимых богатств.
Однажды оракул, говоривший языком звезд, сказал ему, смотря затуманенным взглядом на печень козла: «Твой рок страшен. Ты потеряешь три самые дорогие вещи – одна за другой; потом тебя настигнет погибель, и чумазые руки госпожи Эрешкигаль утянут душу твою, тело твое в подземный мир».
Чем больше бегаешь от судьбы, тем сильнее она дышит тебе в спину. Но у него, самого богатого человека в Вавилоне, была идея. Один шанс – возможный лишь сегодня, в новогоднее празднество.
Сегодня он добудет уникальную личину.
* * *Еще когда старый Вацлав работал в университете и приносил домой лишь необходимое – пакеты с продуктами, мягкие подушки, теплые пледы и кружки из поездок за границу, – он любил растянуть дорогу на работу. Мог бы брать такси – платили хорошо. Мог бы ехать общественным транспортом, как и делал, но коротким путем: автобус, пересадка, автобус.
Выбирал самый длинный. Обожал ощущение поездки, когда время – которое с недавних пор стало так неважно! – и пространство несутся мимо на неописуемых скоростях потоком размытых образов, а ты, как истукан старых храмов, остаешься на месте. Незыблемый и вечный – холодный мрамор и белоснежный гипс.