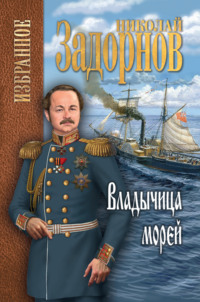Полная версия
Амур-батюшка. Золотая лихорадка
Когда после удачной охоты на тигра у Шишкина зажился Иван Бердышов, для всех стало очевидно, что оба заядлых охотника что-то затеяли.
Родион с Иваном в ожидании вестей о маньчжуре исподволь готовились к предстоящему походу на Горюн.
Родион по многу раз рассказывал своим односельчанам, как он вышел «с палкой на тигру». В довершение своего хвастовства он однажды вывесил тигровую шкуру перед своей избой на зависть своим соседям и соперникам по охоте – Спиридону и Сильвестру Шишкиным.
На третий день к вечеру приехали гольды Юкану и Василий. По их словам, Дыген поутру выезжает из последнего стойбища, где он прожил два дня.
– Откуда знает? – удивился Юкану, когда Иван, войдя в зимник, где остановились гольды, поздоровался, назвав его по имени.
Юкану был рослый, краснолицый и усатый, более похожий на чубатого казака, чем на амурского гольда.
– Знаю, знаю! – загадочно усмехнулся Иван, пожимая его заскорузлую руку. – Батьго, батьго!
В зимнике, просторной теплой избе, где никто из Шишкиных не жил и где зимами квасили шкуры, шили сбрую, шубы, обувь и готовились к охоте, мужики просидели с гольдами до поздней ночи.
Гольды ненавидели Дыгена и согласились помочь Ивану. Он о чем-то долго беседовал с Юкану наедине.
Затемно Родион и оба гольда выехали на двух нартах из Тамбовки, направляясь к устью Горюна. С ночи падал снежок, на льду намело порядочные сугробы, нарты двигались медленно.
– А вот теперь скажу тебе правду, – сказал Бердышов Родиону. – Исправник велел нам с тобой этих грабителей перестрелять.
Родион испуганно взглянул на Ивана.
– Смотри не выдай. Дело государственное.
«Час от часу не легче, – думал Родион. – Вот запутают меня…»
Василий, ехавший на передних нартах вместе с Иваном, всю дорогу не давал ему покоя, клянча у него за свои услуги в придачу к серебру разные вещи. Болтливый и назойливый, он не походил на своих соплеменников. То просил Ивана купить жбан водки, то слишком хвалил его охотничий нож, добавляя, что ему самому хотелось бы иметь точно такой же, то вдруг спрашивал, чем станет угощать его Бердышов, если он приедет гостить к нему на Додьгу.
«Какой попрошайка!» – подумал про него Иван.
Василий всем своим поведением показывал Ивану, как он для него старается: гольд безжалостно колотил собак, то и дело кричал, что надо ехать быстрей, потому что они везут богатого, доброго человека, который ничего не жалеет для бедных жителей Горюна. Не находя иного способа выказать Ивану, как он поступается ради него своим удобством, Василий старался всячески потесниться на нартах, хотя для двоих места вполне хватало.
Наконец Василий надоел Ивану, и тот пригрозил, что не даст ничего, если он будет клянчить.
Гольд поморгал больными веками и сначала хотел что-то возразить, но сдержался, по-видимому решив получить подарок. По мучительному выражению, появившемуся на его лице, видно было, что молчание стоит ему великих усилий. Наконец он, видимо, успокоился, сел боком к Ивану и запел.
На моих собаках лоча едет,Ханина-ранина, —бойко выводил он.
Звуки песни напомнили Ивану самодельную скрипку, которую ему случалось слышать в Бельго.
Мы джангуя повстречаем,Ханина-ранина, —потихоньку заунывно продолжал Василий.
Сам я драться с ним не стану,Ханина-ранина…Джангуйни навстречу мчится,Ханина-ранина,Мое сердце встрепенулось,Ханина-ранина.– Где ты его видишь? – спросил Иван.
– Далеко… Так поется, – ответил Василий по-русски. – Еще маленько проедем, там встретим.
Нойон Дыген пропал,Ханина-а ра… —взвизгнул гольд и на полуслове затих.
Издалека послышался ожесточенный собачий лай. Нарты проезжали под черными обрывами горы Голова Рябчика. Собаки, тяжело дыша, с трудом преодолевали снежные валы.
– Дыген едет! – крикнул сзади Юкану. Он слез с нарт и, чтобы облегчить работу собак, пошел пешком.
Лай становился все явственнее. Иван слышал, как вожак встречной упряжки злобно заливался на все лады, – он требовал уступить дорогу. Собаки Юкану и Василия залаяли в ответ.
Из-за скалы выползли нарты. Десяток собак, впряженных елочкой, с трудом их тянули, барахтаясь в глубоком снегу. По судорожным движениям псов, по высунутым языкам, которыми они время от времени прихватывали снег, по тощим, провалившимся бокам с всклоченной мокрой шерстью видно было, что собаки тянут из последних сил.
Впереди на нартах сидел человек в шубе с мохнатым воротником. Его шапка и плечи были завалены толстым слоем снега. Он все время держал над собаками длинную палку, как бы угрожая им. Нарты ехали прямо. По тупому, безразличному выражению лица и по безумному взгляду, устремленному куда-то вдаль, нетрудно было догадаться, что от долгих таежных путешествий на этого маньчжура напал «морок». Он сидел не шевелясь, тупо всматриваясь вперед, как бы силясь что-то припомнить. Собаки сами себе выбирали дорогу, погонщик лишь изредка, словно очнувшись от своих видений, с силой ударял палкой по собачьим спинам. Среди длинных мешков, привязанных к нартам, спиной к собакам сидел другой человек, голова его была укрыта высоко поднятым воротником.
Третий шел на широких лыжах. Вдали, из-за скалы, появилась вторая упряжка.
Сердце у Ивана застучало. Он скинул доху, пододвинул к себе заряженное ружье и велел Василию сворачивать. Взрывая груды рыхлого снега, нарты встали поперек дороги, чуть отступя от нее.
Сидевший на мешках оглянулся и, увидев встречных, что-то закричал погонщику, но тот, казалось, ничего не слышал. Тогда он проворно соскочил с мешков, к нему присоединился бежавший на лыжах: они стали бить собак и тянуть упряжку в сторону.
Иван и Родион смотрели на них и не трогались с места.
Родион был храбрый человек, верный своему слову. Он никогда не выдавал товарищей. И на этот раз, хотя вся эта затея не нравилась ему, он готов был, как ему велели, стрелять.
Видимо полагая, что русские боятся ехать мимо собак, спутники Дыгена пытались отвести своих псов от дороги. Тем временем приблизились вторые нарты. В них сидел рослый толстогубый маньчжурец, а из-за его спины виднелась чья-то заснеженная шапка, украшенная собольими хвостами.
В рослом погонщике Иван узнал одного из тех встречных, с которыми он спорил ночью под Бельго из-за покусанного собакой барабановского коня. Когда нарты подъехали ближе, человек этот проворно слез на снег и вцепился в хребтину остервенело рвавшегося вперед вожака.
Иван, обернувшись к Юкану, показал на рослого детину.
Между тем встречный в собольей шапке отряхнул снег с воротника и обернулся, по-видимому обеспокоенный длительной задержкой. Иван увидел знакомое рябое лицо, кривой глаз и седые усы, свесившиеся по углам рта. Это был Дыген. Лицо его, с тех пор как Иван видел его в последний раз, пополнело и стало благообразней.
«Вот когда ты попался!» – подумал Иван. Он еще дальше отъехал от дороги и, махнув рукой рослому погонщику, крикнул:
– Проезжай!
Встречные перебросились короткими замечаниями, погонщик повел вожака вперед, согнувшись, держа его за шерсть загривка и за поводок. Нарты приближались к Ивану. Вожак, оскалившись, залаял на него. Собака за собакой пробегали мимо Бердышова.
В широких тяжелых нартах виднелись кожаные мешки, тюки и шубы. Поравнявшись, Дыген уставился мутным глазом на Ивана. Он узнал Бердышова и, как видно, встревожился.
– А-на-на! – вдруг с жаром выкрикнул Бердышов по-гольдски.
В руках у Юкану сверкнула длинная сирнапу – палка с зажатым в нее клинком. Василий быстро кинулся к чужим постромкам и перерезал их ножом, а Юкану ударил по голове рослого погонщика. Упряжка запутала его в поводках и, с воем ринувшись вперед, потащила по снегу.
Иван, как зверь, рывком кинулся к нарте нойона.
Дыген пронзительно закричал. Он силился обернуться к своим спутникам, но тяжелая теплая одежда мешала ему. Иван застрелил его в упор. Родиону сбоку видно было, как старый разбойник тряхнул простреленной головой, откинулся на спину, перевернулся и повалился ничком в снег. Следом за ним, словно убитый тем же выстрелом, рухнул со своих нарт погонщик первой упряжки и, провалившись в глубокий сугроб, остался лежать неподвижно. «Не с испугу ли помер? – подумал Иван. – Вот как бывает! Или притворяется?»
– Эй, Родион, не зевай! – вдруг крикнул он. – Стреляй!
На первые нарты вскочили двое спутников Дыгена. Один из них погнал собак стороной, а другой, чтобы облегчить сани, на ходу выбрасывал грузы. Однако по целине, в глубоких снегах псы продвигались медленно.
– Стреляй, Родион! – прикрикнул Бердышов.
Родион дважды выстрелил из штуцера и, не дав им далеко отъехать, выбил одного из нарт.
Погонщик, на ходу кидавший мешки, упал.
Его товарищ, яростно колотя собак палкой, быстро удалялся. Юкану и Василий надели лыжи и, вооружившись копьями, побежали вдогонку.
Иван опустился перед Дыгеном на колени и расстегнул на нем лисью шубу. Под ней была стеганая шелковая кофта с серебряными шариками-пуговицами.
– Ну, теперь надо разобраться, сколько он жиру нагулял, во сколько наши грехи оценены.
За поясом Дыгеновых ватных штанов Иван нашел вместе с разными мелкими вещами небольшой, но тяжелый мешочек. Развязав его, он высыпал на руку кучку золотого песку.
– Эй, смотри, чего нашлось, – обратился он к Родиону. – Золотишко!
Подошел побледневший Родион.
Иван вытаскивал из мешочка мелкие щербатые самородки.
Издалека донеслись слабые крики. Мужики обернулись. Остановив собак, Юкану и Василий расправлялись с последним спутником Дыгена.
– Ну вот и все! Отвоевались! Вот и забили тигру. Та, паря, с шерстью, кошка была, а тигра-то, вот она лежит!
Глава двадцать девятая
Пурга намела в Тамбовке сугробы вровень с избами.
«Завалины было потаяли, – думала Таня, с трудом пробираясь по глубоким сугробам, – а вот опять буран».
Девушка забежала к соседям. Арина Шишкина, высокая худая женщина, стоя у стола, разливала молоко по крынкам.
– Дуняши нету? – спросила Таня.
– Сейчас зайдет.
– Татьяна, что ли, пришла? – не поворачивая головы, спросил Спиридон.
Татьяна обернулась.
В углу при свете сального огарка мужик зачищал напильником железо, делал какую-то новую часть к ружью.
Спиридон, или, как называли его соседи и родичи, Спирька, тоже страстный охотник. В свободное от полевых работ время дни и ночи напролет возился он с оружием, а потом неделями ходил по тайге.
– Что ж, отец-то еще не приехал?
– Нет еще, – ответила Таня. – А Дуня пойдет к нам?
– Пусть идет, – отозвалась Арина. – Носит в такую погоду! – проворчала она.
Зашла Дуняша – тонкая и стройная белобрысая девушка-подросток. У нее худенькие плечики, широкое лицо и глаза, глубоко сидящие под белесыми бровями. Она в лаптях и в белом холщовом платье.
Таня заговорила с ней вполголоса.
– Чего же Родион-то не едет? – снова спросил Спирька.
В Тамбовке все мужики были охотниками. Зверей они били еще на родине, в тамбовских казенных лесах. Придя в Сибирь, тамбовцы селились сначала по Лене, но там им не понравилось, и они в шестьдесят первом году перешли на Амур, на Горюнский станок.
Вскоре после водворения на новом месте охота стала предметом увлечения всего мужского населения Тамбовки, от мала до велика.
Охотились тамбовцы зимой и летом, добывая зверя всеми способами, полагая, что в тайге его хватит на века. Этой страстностью и безрассудным хищничеством они отличались на промысле от урожденных сибиряков, для которых охота – обычное дело, та же работа и которые знают, что зверям и в тайге бывает перевод.
Между тамбовскими охотниками не первый год идет спор, кто же из них лучший охотник. Родион в эту зиму добыл зверей больше всех, но признать его лучшим охотником Спирьке обидно. Спирька сам знаменитый охотник. Его зовут все Лосиная смерть. Такое прозвище сильно льстит ему, и он желает поддержать свою славу. «Родиону просто счастье, как в карточной игре, – думает он. – Ему удача с тигрой. Она объявилась в деревне, когда его и не было. Мы с Сильвестром и с Санькой Овчинниковым должны были взять, на сеновале сидели, караулили, почти подбили. Нет, ушла и все равно Родиону попалась. А по правилу тигра должна быть наша! Нынче только и разговору везде, что про Родиона, он хитрый, к Бердышову как-то подъехал и с ним дружит».
Спиридон бросил железо на стол, потушил огарок, поднялся. Мужику лет тридцать пять. Он чуть выше среднего роста, сутуловат, со светло-рыжей бородой, которая в сумерках кажется черной.
– Да как же ты, Татьяна, не знаешь, куда он подевался? Не на охоту? – допытывался мужик.
– Не знаю, – потупив голову, ответила девушка.
– С ума все посходили с этой охотой! – пробормотала Арина.
– Ну, айда, – шепнула Дуня, подтолкнув подругу.
Девушки выбежали. Здоровые и крепкие, старшие дочери в семьях, девушки-подростки Таня и Дуняша целыми днями работали, как батрачки. Нравы в Тамбовке были суровые, родители ни в чем не давали девкам воли. Только на работу могли они тратить свои молодые силы. Зато много было радости, когда удавалось им убраться с родительских глаз долой.
– Ну, держись, Танька! – весело воскликнула Дуняша.
Таня пустилась наутек. Дуня была выше, сильнее; легко прыгая по глубокому снегу, она догнала подругу и повалила ее в снег.
– Тебе за тот раз!
– Опять ты…
Пурга заносила их.
– Вы что, девки, с цепи сорвались? – услыхали вдруг они знакомый голос.
В волнах несущегося снега стояла бабка Козлиха. Про эту старуху говорили, что она умеет колдовать и ворожить.
– Чего делают! – воскликнула старуха.
Утихшие девушки поднялись, отряхиваясь от снега.
– Бабушка, вы как на улицу выходите, бурана не боитесь? – бойко спросила Таня.
– Вот я тебя!.. – пригрозила старуха. – Мать-то дома?
– Она к вам собирается, – соврала Таня.
– А-а, – дружелюбно отозвалась Козлиха. – Пусть идет. Скажи, пусть придет.
Старуха пошла своей дорогой.
– Вот теперь тебе будет на орехи!.. – сказала Дуня.
– Сегодня нам с тобой доплясывать. От того разу осталось недоплясано… Ну, отстань, хватит, а то голосу не будет.
– Мать-то уйдет?
– Уйдет, – уверенно ответила Таня.
– А то скажет: «Девки, в пост-то песни орать!» – всплеснула руками Дуня.
– Ишь, метелица…
– Сейчас хоть вечерку с гармонью – никто не услышит.
– Ух жарко!.. Пурга крутит, – едва переводя дух, вбежала Таня в избу. – Несет, как на крыльях. Мама, иди, тебя Козлиха спрашивала. К себе звала…
Петровна управилась с делами и ушла. Таня уложила маленьких братишек, переменила лучину и уселась на лавке. Выражение истомы и нежности появилось на ее грубом лице, в голубых глазах. Русые пряди липли к смуглому лицу, ресницы и брови были влажны. Щеки горели от ветра и снега. Как бы не в силах сдержать волнующего ее чувства, она заголосила сразу громко, ясно и протяжно.
…Девушки пели, потом, по очереди подыгрывая на бандурке, плясали друг перед другом.
Малыш закричал во сне, сбрыкал толстое одеяло. Таня положила бандурку, присела на кровать, прикрыла братишку, приговаривая нараспев:
Ба-а-аю, ба-а-аю…
Оконце не прикрыто ставнем, и в стекло бьет метель. Из теплой избы смотреть страшно, что там делается. Дуняша задумчиво перебирала струны самодельной бандурки. Таня сказала ей:
– Сегодня Терешка на проруби спросил, почему мы с тобой к его сестре не приходим.
Она села на лавку и обняла подругу.
– Больно он нужен! – с пренебрежением ответила Дуня.
Терешка – сын богача Овчинникова, рослый, бойкий парень – поглядывал на Дуняшу и пытался, как говорится, ухлестывать за ней.
На днях подруги приходили к Овчинниковым. Терешка стал заигрывать и залепил Дуняше все лицо снегом. Она обиделась. Даже вспомнить неприятно.
Сейчас подруги наслаждались тишиной, спокойствием, уединением. Можно было помечтать всласть, наговориться о чем хочешь: взрослых нет, в избе тепло и так хорошо, работать не заставляют сегодня. Отца нет, и мать Таню не неволит, противная прялка убрана.
Дуня и Таня хоть и живут под строгим надзором родителей, но в обиду себя не дают. Они еще не сломлены жизнью и обе полны светлых надежд.
Что Терешка! Опротивевший соседский парень, грубиян! Он драчун, бьет парней. Правда, бывает, и ласково заговорит, но чаще он девчонок норовит схватить за волосы, ущипнуть.
Куда занесет девушек судьба? Что их ждет? Кто их суженые? Еще годик, и выдадут их замуж… Уж поговаривают об этом отцы и матери, и страшно становится. Конечно, любо стать невестой, просватанной, шить наряды… Песни будут петь… Но страшно…
– А вдруг ночью увидит кто-нибудь наш огонек, – говорит Дуня, – и заедет к нам. Молодой да красивый…
Подруги обнялись крепко, глядя на черное окно. Пурга выла, никто не ехал, ничего не случалось в жизни особенного.
– Отец сказал, что надо в тайгу собираться. Скука смертная! – молвила Дуня.
У Спиридона сыновей больших нет, он берет с собой дочь на охоту. Дуня умеет настораживать капканы, но стыдится рассказывать об этом в деревне, говорит, что отцу готовит обед в балагане. Тайги она не боится, были случаи, что ходила по ней ночью, на что не все мужики отваживаются. Ей только странно, что парни не так смелы. Чего же бояться?
На столе книги. Дядя Ваня Бердышов оставил их.
– Это что? – спросила Дуня.
Девушки почти неграмотны, с трудом разбирают буквы, помогая друг другу.
На картинке нарисована девица в бальном пышном платье, в шляпе и накинутом плаще, а перед ней стоит, опустившись на колено, молодой красавец. Что это? Кто они? Понятно девушкам, что парень стал на колени в знак любви и уважения. Хотелось бы самим стать грамотными, узнать, что написано.
– Спросить бы у дяди Вани, он скажет, – сказала Дуня, – он грамотный.
– Счастливый дядя Ваня! Он все знает, везде бывает, – молвила Таня.
Долго рассматривали девушки картинки.
– Давай сходим за Нюркой, – предложила Таня, – покажем ей.
– Ее не пустят.
– Да ну, пойдем! Утащим…
Девушки накинули шали.
Пурга на дворе не была такой страшной, как казалась из избы. Едва девушки отбежали от ворот, как со стороны реки из-за сугробов появились черные собаки, три нарты и люди.
Из неприкрытого ставнем окошка избы мерцал огонек, и лучи его падали на несущийся снежный вихрь. Нарты поравнялись с воротами и остановились. Трое в лохматых шубах вышли на свет, направляясь к калитке.
– Кто же это? – с тревогой в голосе спросила Дуняша.
– Тебе чего надо? – стремительно подбежала Таня и встала в калитке, заступая приезжим дорогу.
– Родион дома?
– А тебе зачем?
– Куда он ушел? Моя дело есть, без погоди. Наше шибко холодно.
«Китайцы!» – подумала Дуня.
– Ничего не холодно. Тепло на улице, – сказал Таня. – Видишь, мы раздевшись бегаем.
– Че твоя совсем дурак? – сказал китаец. – Помирай хочешь?
– К гольдам езжай, у них ночуй. Их деревня рядом, вон огни горят.
– Моя знакомый!
– Ты, что ли, Ванька Галдафу? – приглядевшись, спросила Таня.
– Ну, чего, узнала? – заблестел тот глазами. – Здравствуй! Моя Ванька Галдафу… Здравствуй! – стал здороваться он с девушками. – Ты какая красивая. – Он хотел ущипнуть Дуню за щеку.
– Ты смотри, я как брякну по морде, – отпрянула девушка.
– Играй, что ли, нельзя? Наша знакомый!
– Ну, заходи и заводи собак, – сказала Таня.
Толстяк обратился к одному из спутников и что-то сказал, как показалось Тане, по-русски. Приезжие, не открывая ворот, провели собак и нарты через калитку.
– Один-то будто русский, – потихоньку шепнула Дуня.
Девушки, оставив дом и спящих ребятишек на китайцев, сбегали за Петровной. Та позвала Спиридона, чтобы говорил с гостями.
– А это чей же парень с вами? – спрашивал Шишкин у Гао.
На лавке сидел белобрысый рослый молодец с тощим скуластым лицом, красным от смущения и мороза.
– Знакомый! Его отец – мой друг. Фамилия Городилов. В деревне Вятской живет.
– Куда же вы? – обратился Спиридон к парню.
– В город, – быстро, как приказчик в магазине, ответил парень и вдруг смутился и заморгал белесыми ресницами.
– А имя Андрюшка, – продолжал китаец.
– Пожалуйста, заходите ко мне, – сказал Спирька. – Рады будем… А как у вас нынче покосы, тоже топило?
Петровна подала ужинать. Городилов отвечал кратко и неохотно. Он осторожно брал хлеб, ломал его маленькими кусочками и жевал неестественно медленно. Спирьке это не понравилось. Шишкин пытался расспросить, зачем он едет в город и как нынче живут мужики в Вятском.
Девчонки зорко наблюдали за приезжим парнем.
Спирька понял, что от вятского не добьешься толку, и заговорил с китайцем:
– Что, Ваня, на Горюн не поедешь?
– Нет, там чужой река! Там другой хозяин – Синдан.
– Видишь ты! Значит, у вас разделяются по купцам эти гольды, как крепостные за помещиком.
Гао и Андрей переночевали в зимнике.
Когда Спиридон пришел утром к соседям, Андрея там не было. Он, как оказалось, ушел к Овчинниковым. У него было к богачам какое-то дело. Похоже было, что Андрюшка привез им спирт.
В тот же день в Тамбовку приехал другой торговец, по прозвищу Ченза. Гольды так называли его. Он был с речки Хунгари, впадающей в Амур выше Уральского. Ченза возвращался с низовьев Амура. Там обычно торговал его брат, но недавно он захворал и поручил Чензе собрать долги.
Толстяк Ванька и Ченза, щуплый, исчерна-смуглый китаец с сухим, узким лицом и с проседью в черных усах, открыли скупку мехов в Спирькиной избе. Мужики приносили свою добычу.
Спирька по просьбе Петровны показал им шкуру убитого Родионом тигра. Китайцы сразу же назначили хорошую цену, но Петровна отдать не согласилась.
После обеда торговцы собрались ехать. Андрей запрягал во дворе своих собак, надевал на них хомуты.
– Бедненький! Он в работники к китайцу нанялся! – шутливо молвила Дуня.
– Ну чего выставились? – грубо спросил парень. – Не видели, как собак запрягают?
Дуня с укоризной улыбнулась. Парень не понимал шуток.
– Боится, сглазим, – со сдерживаемой насмешкой уронила Таня.
– А вот нарочно буду смотреть! – подбоченилась Дуня и вытаращила глаза на парня.
В калитку вошел рослый, худой и краснощекий Терешка Овчинников.
– Девки, не смейтесь над ним, – сказал он. – Андрей с рублем. Захочет – так всю Тамбовку нашу сдвинет с места.
– Надсадится, – отозвалась Таня.
Приезжий парень разогнулся и, жалко моргая, словно собираясь плакать, уставился на Терешку. Белые, как лен, брови выступили на густо покрасневшем лице его.
– Ой, девки, зачем вы его обижаете? – умоляюще шептала, трогая Дуню за рукав, толстая черноглазая Нюрка. – Ой, уж как не стыдно вам!.. Просто какие-то бесстыжие…
– Тятя, а кто он такой? – спросила Дуня отца, когда торговцы уехали.
– Парень не дурак! Китаец говорит, что он повез в город спирт продавать. Тихоня, все краснеет. Я его просил продать спирту, так он мне дал бутылку, а больше не дал. Говорит, мало осталось. Я их знаю! Ему, видишь, невыгодно мне продавать. Он из молодых, да ранний. Гляди, он все моргает, а в городе знаешь какие деньги огребет… Он бы и вовсе не сказал, что спирт везет, кабы Ванька не сознался, кто с ним путешествует. И Овчинниковы его ждали. Будут гольдов спаивать. Вот так и живем на новом месте. Одни хлеб сеют, а другие контрабандой занялись. Их послушаешь, так все тут только и делают, что пьют. В реке, по их словам, не воде бы течь, а спирту.
Вечером Спиридон беседовал с соседом-приятелем – тамбовским богачом, мужиком огромного роста, Санькой Овчинниковым и со своим родичем Сильвестром Шишкиным.
– Давай с тобой возьмемся и превысим Родиона, – говорил Спиридон. – Я полагаю, что надо захватить эту тигру живьем и представить в Николаевск начальству, чтобы по всему Амуру объявили, какие мы охотники. Отправят ее в Петербург на корабле, а? Как ты, Сильвестр, мыслишь? Однако, и там такой животной нету.
– Как ее возьмешь? – угрюмо возражал Овчинников. – Она нас сожрет…
– Пущай попробует, – отозвался Спиридон. – Но, если уж поймаем ее живьем, Родион не будет над нами насмехаться. Живьем еще никто тигру не ловил!
– Давай мы у Родионовой тигры усы выдерем? – сказал Сильвестр. – Слыхал, что китайцы сказали? Самая цена в усах да в костях! Они лекарство из костей делают для стариков.
– Нет, я на это не согласен. Не годится, – отвечал Спирька.
– Я выдеру сам, а ты молчи! Вот придет Родион, и больше хвастаться ему нечем будет… Тигра останется без усов!
Но ни Сильвестр, ни Спирька не привели замысла в исполнение – усы у тигра ночью выдрал Терешка Овчинников по наущению отца.
Глава тридцатая
Ночью Таня слыхала, как приехал отец, что-то таскали в зимник.
«Грузы, что ль, тятя возить подрядился?» – подумала девушка.