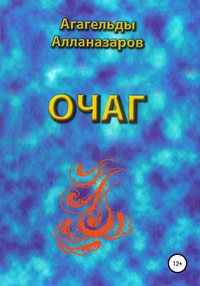Полная версия
Поклажа для Инера
Когда выносили тело дядюшки Донлы, старики и за ними все окружающие посетовали, что не успел Гег проститься с отцом… Но кто же возьмется за переднюю правую ручку погребальных носилок?
Так уж случилось, что в нашем роду сердаров я остался самым старшим, а вернее, самым… представительным, что ли… Был еще Тойли – и мой ровесник, и тоже из сердаров. Но о нем, по-моему, в тот момент даже никто не подумал. Когда тяжесть носилок легла на мое плечо, я задрожал и колени мои на мгновенье подогнулись, словно я нес носилку один…
Тяжесть… Невозможно было поверить, что никогда больше Донлы ага не подъедет к нашему полю за своей вязанкой травы. И никогда я не услышу его удивительных рассказов. И никогда… Сколько же всего безвозвратно исчезло теперь!
Когда мы пришли на место, из ямы выбрался запыленный усталый человек. Отошел в сторону, спросил, оперевшись на лопату:
– Кто из сердаров хочет войти туда и посмотреть?
– Это – слова традиционные, положенные по обряду. Я глянул налево, направо… Но здесь никого не было из нашего рода, никого, кроме меня!
И невольно я вспомнил, как раньше многочисленен был наш род. Уже обязательно несколько голосов откликнулись бы на слова могильщика. Но все сердары были на фронте, далеко отсюда, очень далеко… Там, где кровью и жизнью они решали судьбу своей великой родины. И виделось мне, какой яростью и святой местью блестели сейчас их глаза…
Не очень понимая, что от меня требуют, я шагнул к яме. Но тут Гурт-милисе жестом остановил меня… Затем он спустился в яму, лег там, вытянувшись во весь рост – проверил достаточно ли просторна будет могила для мертвеца!
У меня перехватило дыхание, я вздрогнул и замер, словно на меня обрушился поток ледяной воды… Так, значит, вот что я должен был сделать! Почувствовал, как слезы подступили к глазам. И чтобы никто этого не увидел, я поднял голову, стал смотреть на белые неподвижные и такие спокойные гряды облаков.
VII
Председатель вызвал меня в контору – сразу тревожно и тоскливо сделалось на душе. Ничего хорошего ждать мне не приходилось… Ткнул в бороздку лопату, пошел к арыку, смыл землю, налипшую на босые ноги… Что ж, все ясно: председатель решил рассчитаться со мной за дружка!
Я знал, что когда-нибудь это все равно должно было случиться. Знал и ждал. И думал даже, что меня позовут сразу, на следующий день, после того случая с Меле-шейтаном. Но председатель, как говорится, имел терпение! Наверное, хотел дождаться какого-нибудь моего проступка на работе. А может, думал, что я однажды ночью заберусь в колхозный харман, чтобы украсть зерна… Но ведь Язмухамед ага не лишил нас доли, которую колхоз выдал ежедневно на каждого члена семьи. Значит?.. А так ли уж все плохо, как мне кажется?
И однако, когда я входил в контору, сердце мое билось; словно я взбежал на гору, а ноги просто не шли в председательский кабинет. Чтобы хоть немного успокоиться и не выглядеть трусом, я стал прохаживаться около дверей кабинета. Вдруг оттуда вышла женщина вся в слезах, и я подумал: “Наверное, с фронта пришли для нее плохие вести!».
Пора и мне было узнать свою судьбу. Я вошел в кабинет, сел на стул, стоящий у самой двери. Не очень смело огляделся вокруг… Моего прихода никто будто и не заметил. Лишь Сумсар-вага. И показалось мне, что он засуетился. Он почесал карандашом свое толстое лицо, затем вознамерился сунуть карандаш в рот, словно это был мундштук, но не сунул и, в конце концов, заложил карандаш за ухо.
То, что происходило в кабинете, не было ни заседанием, ни простым человеческим разговором… У стола, покрытого красным бархатом, стояла женщина – загорелая, в домотканном выцветшем на солнце платье. Стояла она, опустив голову, вся красная.
А за столом сидели председатель Язмухамед, два его дружка и пузатый бригадир Аяз. Лицо председателя было каким-то осунувшимся, словно после болезни. А прекрасная его папаха сползала на глаза, как будто сделалась велика…
Меле-шейтан, зло и подозрительно выкатив глаза, допрашивал женщину… По-видимому, она перед этим рассказывала о своей болезни, потому что Меле-шейтан орал:
– Брось, слушай! Болезням нечего делать около тебя. Ты же здоровей любой собаки!
После этого “сравнения», женщина вся сжалась. И хотела что-то ответить, и побаивалась. Но потом, по-видимому, она решила, что молчащий, как говорится, все победит. И продолжала стоять, опустив голову, не отвечая на крики. И тут в разговор вмешался Сумсар-вага.
– Эй, Патма! – закричал он, размахивая руками. – Что ты застыла, как объевшаяся корова?.. Промычи хоть что-нибудь.
Этого женщина уже не смогла стерпеть:
– Твоя мать – объевшаяся корова! И твоя сестра с двумя детьми, от которой ушел муж, – объевшаяся корова!
– А ну заткнись!
– Нет не заткнусь! Рябой…, чтоб земля тебя проглотила. Я-то живу на своей земле, у себя дома, и меня не заставит молчать всякий пришлый, отец которого появился здесь, как раб в торбе коня!
Это последнее относилось уже не к сестре и даже не к матери Сумсар вага, а к его отцу!
Глядя на эту женщину, я и сам воспрял духом! Ведь еще минуту назад она стояла такая вся напуганная и покорная, а теперь… И я от души порадовался за Патму. Вот нашлись же у нее сила и смелость, сумела себя защитить! А я как-никак мужчина!
Скандал этот, видно, надоел председателю. Он медленно поднял голову, глянул на женщину, которая вся так и тряслась от гнева.
– Ну хватит, Патма, ступай домой… Ступай, ступай… И не надо обижаться на каждое слово. До обеда сделай, что там надо по дому. А потом будь на рабочем месте. Все!
Когда Патма вышла, сидящие за столом громко расхохотались. И даже полные губы Язмухамеда ага изобразили улыбку. Сумсар-вага, хохотавший старательней всех, вытер слезы. И будто ничего и не произошло, стал в миг серьезен, принялся ощупывать меня пристальным и совсем недобрым взглядом…
Меле-шейтан делал вид, что вообще никого не замечает. Но он меня замечал! Зубы его стучали от волнения. Меле поерзал на стуле, прокашлялся… А я подумал о его выпуклых мутных глазах, которые уже через несколько мгновений тоже вцепятся в меня.
И тут вдруг мне самому захотелось посмотреть ему в глаза. Посмотреть, подмигнуть и улыбнуться: мол, что, мечтаешь мне отомстить, а, Шейтан?.. Так попробуй, может, что и получится!
Такое желание подсмеяться над взрослыми обидчиками было у меня не впервые. Помнится, я просто мечтал устроить какую-нибудь каверзу Ахмеду ага, который всегда больно брил мне голову. И вот однажды я увидел его, сладко спящим в тени. До чего же мне захотелось отхватить хороший клок из его бороды. И мне стоило большого труда удержать себя от этого.
Но теперь все было по-другому, и речь шла не о детских шуточках…
Язмухамед ага, пробежав взглядом по ряду пустых стульев, наконец, нашел меня. Некоторое время молча оглядывал, словно собирался обмерить или взвесить меня этим своим взглядом. Спросил хрипловато:
– Ну так что, начальник? Пришел?
Я промолчал. Язмухамед ага ведь и сам видел, кто стоит перед ним.
– А как, интересно, дела у твоего хлопчатника?
– Нормально вроде, – ответил я как можно спокойнее. – Стараемся,чтобы он никогда не испытывал жажды.
Председатель кивнул:
– Нельзя, чтобы у хлопчатника была жажда… – помолчал секунду. Да, кстати. Ты что же не шел за чарыками, которые я тебе разрешил взять в прошлый раз?
Я не знал, что и ответить! Язмухамед ага чуть повернулся в сторону Сумсара вага:
– Так ты принес?
– Да-а… Они здесь…
– Ну так неси, неси!
Сумсар-вага поднялся, высокий не очень какой-то складный, ушел в соседнюю комнату. И возвратился… с тремя парами чарыков! Молча протянул их мне…
С большим нетерпением я ждал того момента, когда председатель разрешит уйти! А про историю на дворе у Меле-шейтана будто бы все и забыли. Ни слова не сказали мне об этом.
Я вышел, прикрыл дверь и остановился – ждал, что сейчас раздастся их хохот. Но никто не засмеялся… А я все никак поверить не мог, что меня специально вызвали в контору вручить сыромятные чарыки!
VIII
Это случилось спустя несколько недель. В тот день я поздно вернулся домой. Старшая гелнедже сидела, привалившись к стене, с маленьким Юсупом на руках. Рядом, словно крохотный воробышек, спала ее дочка.
Наверное, гелнедже только что перестала плакать. В тусклом свете керосиновой лампы я видел ее измученное лицо, припухшие от слез веки.
Быть может, невестки посорились из-за чего-нибудь?..
Юсик поднялся с материнских рук. Потом радостно подбежал ко мне, повис на шее:
– Дядя Язлы, дядя Язлы! А к нам дед бородатый приходил!
– Когда? Какой дед? – Я погладил Юсика по голове.
– Не знаю, какой… Они с моей гелнедже выходили во двор, вон туда. А мама начала плакать! И гелнедже плакала, а потом начала меня целовать…
– Ее отец забрал, – тихо сказала старшая гелнедже и заплакала.
Только что уехали. Наверное, еще не добрались и до края села. Она попробовала встать и не смогла. Слезы лились из ее глаз. Я еще продолжал держать Юсика:
– Но как же так?
И не стал дожидаться ответа на свой пустой вопрос, выбежал из дому… Гелнедже что-то крикнула мне вслед – я уже не услышал, не успел услышать.
За селом, по дороге неспешно скрипела арба, которую тянул ишак. В свете яркой, как лампа, луны, я сразу увидел, что эта арба увозит мою гелнедже!
– Э! Гелнедже! Гелнедже!
Голос мой, будто волнами, прокатился по залитой желтым светом окрестности… Мирное поскрипывание прекратилось, арба стала. Я подбежал, бормоча что-то, почти не слыша себя. Положил голову на туфли своей гелнедже.
Наконец, я услышал, что твержу одни и те же слова:
– Не покидай нас, гелнедже! Прошу тебя! Останься, останься, гелнедже! – И понял: надо сказать что-то – самое важное…
– Ведь он вернется, ты сама увидишь! Вернется! Вон про дядю Айлы тоже пришло письмо… А он вернулся! Ты же знаешь!
Гелнедже моя, не смея вымолвить ни слова, беззвучно рыдала, упав лицом на узел с вещами. Обнимая ее туфли, я чувствовал, как она содрогается всем телом.
Управлявший арбой пожилой человек с окладистой бородой спустился на землю, подошел ко мне, стал говорить что-то спокойное, вежливое, утешительное. Но все это, действительно, были только утешения…
Я хорошо знал его. До войны он часто приезжал к нам. Они любили с отцом попить чайку да потолковать. Сядут на кошме под шелковицей и говорят. И много я узнал от него интересного… Моей почетной обязанностью было подносить им угощение и чай с очага.
И я отлично помню тот день, когда мы с мамой наведались к ним – сказать словечко насчет их дочери… И как после ее привезли в наш дом. И помню веселую суматоху свадебного поезда… Ах, какую же хорошую свадьбу тогда сыграли! И мальчишки, сорвав с мамы головной убор, смеялись и бросали его в воздух…
– Ты не плачь, сынок. Не надо плакать… Бог даст, твой брат и вернется. И ты прискачешь к нам за подарком – раз принес такую радостную весть. Тогда – забирай назад свою гелнедже! А то я и сам ее привезу: разве так уж далеко от вас до нашего села?..
Еще он добавил, что я – старший в доме и, значит, должен мужаться. Но никакие слова его не помогали. Словно я оглох!
И тогда старик просто тронул арбу. А я остался на пустой дороге, все так же плача и видя сквозь слезы, как уезжает моя гелнедже… Затем вдруг кто-то схватил меня за сердце и дернул в сторону, и я побежал, сам не зная куда.
Широко раскинулось хлопковое поле, молчаливые, высвеченные луною холмы стояли поодаль. Я будто ничего не замечал. Я лежал, уткнувшись лицом в землю, плакал, пока не кончились слезы!
А телега, увозившая мою гелнедже, все ехала сейчас где-то, да ехала. И скрипела она все так же мерно и спокойно…
И теперь я был рад, что ноги мои принесли меня сюда… Нехорошо было бы идти домой таким, каким я был еще час назад. Прав был старик: я должен мужаться. И мое ли это дело расстраивать старшую гелнедже, которая и так уж расстроена, пугать детишек…
Было уже далеко за полночь. Домашние… я надеялся, что они теперь спят. Спустился к арыку, тихо бегущему в низине среди холмов, умылся и спрятанный ото всех темнотою пошел домой.
IX
Еще прошло несколько месяцев. В колхозе уже заканчивали собирать хлопок… А мне как раз не повезло: грузил на арбу тяжелые тюки, оступился, упал и… теперь лежал со сломанной ногой. Было мне грустно, одиноко. Белый свет мог я видеть только через окно.
Хорошо хоть дома были дети моей гелнедже! Так приятно было слушать их важную болтавню… Или я сажал их рядом и начинал рассказывать сказки.
Было у меня и такое развлечение – может, правда, не очень взрослое: я любил их чем-нибудь раззадорить, а потом сразу начинал мириться. Это было мне совсем несложно. Я давал им какое-нибудь обещание. Ну, например: что как только выздоровлю, то пойду в заросли за село и принесу им живого шакаленка.
Сейчас же они забывали обиду. Глаза загорались отчаянным, почти мучительным любопытством. На меня обрушивалось столько вопросов, и мне приходилось рассказывать такие подробности, что шакаленок, пойманный нашим воображением, был даже еще живее и лучше настоящего!
Но всего интереснее и смешней было наблюдать, как они крутились около возвратившейся с работы матери. Гелнедже хлопотала по хозяйству, а ребята, соскучившись, ходили за ней хвостиком. Но талдычили, конечно, свое:
– Мам, купи нам ляльку… Вон, соседи-то себе купили! А я тоже хочу такую поняньчить!.. Ага! Какой хитрый нашелся, я сама буду нянчить… Нет я!.. Нет я!
И начиналась совершенно серьезная ссора с совершенно серьезными слезами из-за несуществующей “ляльки». Старшая гелнедже чаще всего приходила усталая. И у нее уже сил не было разбираться в этих спорах. Она лишь старалась как можно больше успеть по хозяйству, а ребятам… ответит разок-другой невпопад. А то и вовсе – прикрикнет строго:
– Ну-ка, ступайте отсюда… горе мое! И без “ляльки»-то голова кругом…
Часто целые ночи напролет я не мог заснуть… Без работы, вообще без всякого дела я особенно сильно тосковал по старшим братьям, по отцу. Иной раз я так ясно представлял, что вот они все собрались… и тогда чувствовал себя по-настоящему счастливым… и глубоко несчастным: ведь их не было на самом деле!
Но, может, тяжелее всего то, что младшая гелнедже поверила: погиб наш Довлет! Поверила в то, во что я верить не собирался.
Да и еще много было всего, что не давало покоя. Меле-шейтан и Сумсар-вага частенько приходили ко мне этими бессонными, одинокими ночами. Опять меня охватывали злость и презрение. Уж скорее я какого-нибудь пса шелудивого назвал бы своим лучшим другом, чем изменил отношение к этим людям!
Не хотелось мне считать в их компании председателя Язмухамеда ага. Но, с другой стороны, я понять не мог, почему эти два жулика творят в колхозе все, что им захочется? А председатель молчит!
Что это значит?
Да нет, видно, тут дело тоже нечисто!
О, как же сильно хотелось мне приблизить тот момент, когда отец и братья вернуться с войны. И мы свяжем этих двух проходимцев да выдерем на глазах у всего села!
И еще, как ни странно, я радовался, что их не взяли на фронт. Потому что был уверен: они бы непременно перебежали к врагу! Это уж точно…
Иногда ко мне заглядывали Сарагыз и ее мать, тетя Нурбиби… Сарагыз, конечно, тут же начинала шутить, что мол, это я все притворяюсь, ничего у меня не сломано, а я просто лежу да коплю силы, чтоб как следует отлупить Меле-шейтана. И еще, “раскрывая большую врачебную тайну», она советовала мне забыть о красивых девушках и побольше есть дынь.
Но после их ухода я опять оставался один… Во второй половине дня было особенно душно. Это тянулось долго, до самой поздней ночи, и лишь потом пробегал ветерок, становилось немного прохладней.
Вот и в тот вечер была духота. Я лежал, глядя, как старшая гелнедже при свете керосиновой лампы латает Юсиковы штанишки. Наконец, и она потушила лампу, поставила ее на обычное место – в углу, подальше от дверей, чтобы никто не опрокинул в темноте…
Прилетел долгожданный ветерок, сделалось прохладнее. Ребята, до того метавшиеся во сне, теперь успокоились… А я все не спал, словно чего-то ожидая. Так захотелось мне на залитый луною двор, так захотелось уйти за село и глянуть на те прекрасные холмы и дали, которые я так любил. Хотелось сидеть среди лунного свечения и вспоминать, вспоминать – отца, маму, братьев, дядюшку Донлы ага. Всех, кто ушел на фронт, кто бил сейчас врага, кто вернется и кому уже никогда не суждено вернуться…
И потом уснуть. И тогда, казалось, сон мой будет спокоен и счастлив, как бывал только до войны… в детстве…
И вот задремал, наконец… Я увидел небо и луну, которая делалась все меньше и меньше, словно куда-то улетая…
– Язлы!.. – Я решил, что и этот голос мне только снится…
– Язлы! Нет, он был настоящим!
Особенно я в этом убедился, когда окликнули мою гелнедже!
Причем голос звучал как-то сдавленно, хрипло… Нет, я больше не спал!
В голове поднимались мысли, одна мрачнее другой…
Наконец-то мне все стало ясно!
Меле-шейтан, наверное, к ней подбирался…
Тихо я нащупал крепкую палку, служившую мне костылем, кое-как приподнялся, пополз среди темноты… Проснулась и, видимо, вскочила со своего места гелнедже, пробормотала что-то испуганным голосом… Что-то упало на пол… Не помню уж как я добрался до выхода. Перехватил поудобнее палку. Решительным ударом распахнул обе дверные створки. Сразу лунный свет легко и вольно наполнил наш дом.
– Язлы джан, браток!
Человек, словно явившийся на пороге вместе с этим светом, крепко обнял меня. И тогда только я несмело и радостно воскликнул:
– Агамурад! Потом я просто прижался к его просоленной потом гимнастерке и заплакал, как маленький.
Теперь я это мог, имел право реветь в полный голос! Я нес свои обязанности старшего – как умел, изо всех сил. Но теперь – вот он стоит, улыбаясь, мой старший брат Агамурад, которого не было дома целых четыре года…
Да, теперь ты вернулся, Агамурад. И я плачу, потому что счастлив и потому что я опять младший.
О! Мне столько еще хотелось тебе рассказать…
Но странно, именно в эту минуту, все словно исчезло в памяти. И остались только глаза Нурли. Тот самый его взгляд, когда мы прощались… В то далекое мгновение он был мне так непонятен… И лишь теперь, все еще прижимаясь к брату, я понял этот взгляд:
Брат мой, место, которое тебе придется занять, оно так тяжело, что и не выговоришь. Это поклажа для инера». Взгляд Нурли и жалел меня, и просил быть мужчиной… Поклажа для инера… Лишь в ту ночь, когда вернулся мой старший брат, я со своих плеч передал поклажу ему и снова стал беззаботным мальчиком.
Перевод С.Иванова. 1978 год.
СЕМЬ ЗЕРЕН
Первое увольнение
Весенний день. Выйдя из зеленых ворот со звездами на створках, повернул к югу и пошел по тропинке, ведущей в город. Первое увольнение! Чем ближе подходил я к городу, тем шаги мои становились легче.
Первым делом сфотографироваться. Моя мать и жена просили в каждом письме: “…Пришли свое фото. Хочется поглядеть, каким ты стал солдатом». Получат и обрадуются. Я невольно улыбнулся. Говоря откровенно, мне и самому хотелось взглянуть на себя в десантной форме. Пока я сидел в фотоателье, низко висевшие над городом облака разверзлись. Прозрачные капельки ударялись о стволы деревьев и по ним стекали на землю…
Смешавшись со степенными горожанами, брел я по городу и через часок-другой оказался на улице, вымощенной камнем. Эта узкая улочка вела на восточные окраины, дома встречались все реже, а затем и вовсе исчезли. Я и раньше знал, что там речка, огибающая город, будто пугливая лошадь, сторонящаяся опасности. И хотя мне ни разу не пришлось сидеть на ее берегу, я успел подружиться с нею. Мы часто проезжали на машине по мосту. Сейчас река потеряла летний вид: нет здесь шумного веселья, не видно девушек в купальниках, не снуют лодки вверх и вниз по течению. Но и тот скромный пейзаж, что предо мной, был мне мил.
Рыбацкие челны, привязанные к каменным кольям, слегка покачивались на воде. Я уселся в один из них и стал смотреть на воду да время от времени бросать камешки. Хорошо!..
Однако этот идиллический покой скоро кончился. Я полез в карман, где должна была лежать увольнительная, и не обнаружил ее. Проверил другие карманы – увольнительной нет. Вспотев от страха, выскочил я на берег и принялся обшаривать одежду, только что под собственную шкуру не смог заглянуть. Тщетно.
Оставалось одно – сматываться, и как можно скорее. Я выбрал улицу, начинающуюся у реки, укромную и тихою, куда вряд ли заглядывают патрули. Улица действительно была безлюдна, и вскоре я успокоился.
– Гвардеец! Десантник! Остановитесь! – Окрик прозвучал так резко и так неожиданно – поистине гром с ясного неба. Легко ступая, ко мне шел офицер в сопровождении двух солдат. Сейчас они потребуют мою увольнительную. Что делать?..
От страха не очень-то соображая, что делаю, я повернулся и пулей влетел в боковую улицу. Патрульные от неожиданности растерялись, и я выиграл кое-какое время, но радоваться было рано: лейтенант настигал меня.
– Что делать, что делать? – стучало в висках. – Позор! Поведут под конвоем! Ах, черт, кажется, я в тупик попал. На моем пути вырос многоэтажный дом.
Я ворвался в подъезд и стал толкаться в двери. Одна из них потдалась – и я оказался в комнате. За столом сидели трое и обедали. Увидев незваного гостя, в недоумении переглянулись и уставились на меня. Человек, сидевший во главе стола, приподнялся с места. Его лицо показалось мне знакомым, но вспомнить – откуда, я не смог. К тому же рядом с ним сидела очень интересная женщина: высокая грудь, пушистые волосы и удивление, с каким она разглядывала меня, поглотило мое внимание.
Под взглядом этих глаз я таял, точно лед под солнышком.
– Простите меня… – забормотал я, наконец, – если позволите, я задержусь здесь на несколько минут…
Тяжело переводя дыхание, я топтался у двери.
Человек во главе стола, словно поняв, от кого я убегаю, вдруг с места в карьер стал “чесать» меня, как свояка:
– Поумнеете вы когда-нибудь? Сами-то хоть понимаете, как ведете себя…
Но тут вторая женщина, постарше, видно, жена его, заступилась:
– Коля! Не нужно так… оставь.
Человек замолчал, заходил по комнате – руки за спину. И тут в подъезде забухали сапоги. По очереди стуча в двери, потруль спрашивал меня. Через секунды очередь дошла бы и до этой квартиры.
Девушка, обменявшись с матерью взглядом, встала и указала на смежную комнату:
– Идите туда!
Я не заставил себя просить. Девушка подала мне стул и положила перед мной кучу газет, а сама, взяв “Огонек», села напротив. Струи свежего воздуха, идущие от форточки, теребили ее волосы, доносили до меня аромат, похожий на запах знакомых цветов.
Однако я не забывал о событиях за дверью и чутко прислушивался.
И тут на глаза мне попалась вещь, от которой снова бросило в жар; на спинке кресла висел офицерский китель. В тот же миг стало понятно, откуда знакомо мне лицо хозяина квартиры. Ни больше, ни меньше – вломился я к командиру нашего полка. Если бы он был в форме, я узнал бы его сразу. Непонятно, почему мне сейчас вспомнилось, что “старики» о командире рассказывали: в годы войны, будучи в чине старшего лейтенанта, он командовал батальоном. А командир дивизии, часто посещающий наш полк, в те годы был сержантом в его батальоне.
Ошарашенный своим “открытием» я боялся даже взглянуть на девушку, но тут вошла хозяйка, как ни в чем не бывало, стала рассказывать о своем племяннике, проходящем службу в Москве. Я невольно заслушался рассказом о таком же солдате, как сам. Уверен, что гражданский того не поймет.
Хозяйка показала и фотокарточку племянника – у красной стены Кремля стоял ефрейтор. Он улыбался мне, а я ему завидовал.
Беседа так увлекла, что на мгновение позабылось, где я… Но, улучив момент, мать и дочь поинтересовались, почему мне сегодня пришлось стать “зайцем». Я почувствовал, что дико краснею. Потом рассказал им подробно, от а» до я».
Мать и дочь попросили показать им военный билет и ушли с ним в смежную комнату. Возникшая при этом тишина подействовала на меня удручающе. Вытянув шею, я глянул в окно и увидел патрульных, ожидающих моего появления.
Вернулись женщины с моим билетом и – о чудо! – увольнительной. Я вспомнил, где “потерял» ее: под обложкой военного билета. Спрятал туда для надежности.
Беседа наша стала оживленнее. Выяснилось, что мы немного “земляки»: когда-то молодой лейтенант Тарасов прожил с семьей в моем родном крае целых два года.
Вспоминая о Бадхызе, о его холмах, покрытых алыми тюльпанами, мы становились все ближе друг другу. Я узнал, что женщину зовут Ниной Евстигнеевной, а девушку Таней. Нина Евстигнеевна, извинившись, ушла: дела домашние звали на кухню. Татьяна оказалась книголюбкой, как и я, и не прочь была поспорить о книгах. Я бы мог сидеть здесь вечно, но надо было возвращаться в часть.