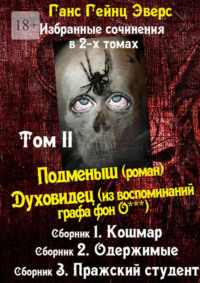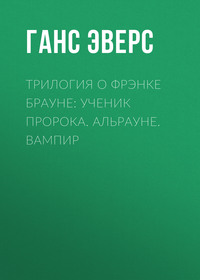Полная версия
Кошмары
Но какая судьба после всего ждет леди Синтию? Меня он пусть хоть четвертует, но с нею, с милой святой женщиной… что с нею будет? Вся ответственность за случившееся лежала на мне одном, и я знал это с самого начала. Сэр Оливер пригласил меня в свой дом, он был щедр и великодушен по отношению ко мне, а что я? Влюбился в его жену безоглядно – ходил за нею по пятам, навязывал свое общество, подкарауливал. Не удовлетворяясь тем, что она препоручала моим губам свои белые ангельские персты, я хотел получить у нее все больше и больше, моя страсть становилась сильнее и сильнее, и вот наконец…
Да, я не упрашивал ее ни о чем на словах, но разве моя кровь не кричала ежеминутно о любви к ней? Зачем слова, когда сиял мой взгляд, когда тело мое трепетало от одного ее вида? Ее, грубо отвергнутую мужем, предавали и унижали каждый день у меня на глазах, а она страдала и переносила эти муки, как святая – о, нет, на ней не было и тени вины! Чудом она поддалась искушению, которое приготовил для нее молодой ловелас, не отступавший ни на шаг, но даже так, даже так она оставалась святой! Она пошла на измену скорее из собственного великодушия, из жалости к юнцу, которого снедала похоть. Она отдалась мне подобно той милостыне, какой одаривала бедняков, навещаемых в близлежащих селениях; и вопреки всему этому осталась целомудренной. И она так стыдилась всего случившегося, что запрещала мне разговаривать с ней в минуты близости – ни разу даже не повернула ко мне головы, не заглянула в мои глаза…
Наконец все стало предельно ясно: на мне одном – полная тяжесть вины. Это я здесь – соблазнитель, угодник чужих жен.
И чем мне теперь увенчать это дело – должен ли я предстать перед сэром Оливером, сказать ему?..
Нет, этого не выйдет!
Но что-то стоило решить.
Я не знал что. Пролетела ночь – верный выход из ситуации не открылся мне.
Завтракал я у себя в комнате. Пришел дворецкий с приглашением от сэра Оливера сыграть в гольф. Одевшись, я спустился вниз и вышел на улицу. Гольф всегда давался мне непросто, но в этот раз и вовсе не удавалось попасть по мячу – я лишь выбивал клюшкой почву из земли под ногами, а сэр Оливер беззлобно потешался надо мной.
– Что на вас нашло, мой мальчик? – спросил он в какой-то момент.
Я ответил неким невнятным образом. Один неудачный удар следовал за другим, и мой хозяин вдруг сделался необычайно серьезным. Подойдя ко мне вплотную, он спросил:
– Скажите… неужели она… приняла вас там, у своего окна?
Его прямота оказалась убийственной – ровно с тем же успехом он мог рубануть меня мечом. Я разжал пальцы, выпустил клюшку – и кивнул. Бесцветное «да» слетело у меня с губ следом.
Сэр Оливер присвистнул. Надумав что-то мне сказать, он тут же придержал слово. Свистнув еще раз, он развернулся и медленно зашагал к замку. Я понуро ступал за ним в отдалении.
В то утро я не видел леди Синтию. Когда раздался звонок, приглашавший к ланчу, я заставил себя спуститься вниз. По пути я столкнулся с сэром Оливером – подойдя ко мне, он произнес:
– Не хочу, чтобы вы разговаривали сегодня с леди Синтией наедине.
После этих слов он жестом пригласил меня войти.
За трапезой я почти не разговаривал с ней – беседу направлял и вел хозяин. После ланча леди Синтия приказала подать экипаж: она ехала давать милостыню беднякам. Я по обыкновению поцеловал ее руку и услышал привычное:
– Чай в пять часов.
Вернулась она не раньше шести; я стоял у окна в своей комнате, когда подъехала ее карета. Она бросила на меня снизу вверх приглашающий взгляд. Когда я вышел из покоев, за порогом меня уже ждал сэр Оливер.
– Она вернулась? – спросил он. – Прекрасно. У нас сейчас будет чай втроем.
Сейчас что-то будет, подумалось мне.
На столике стояло лишь две чашки – очевидно, леди Синтия ждала одного меня. То, что на пару со мной явился и сэр Оливер, слегка застало ее врасплох, но она тут же послала дворецкого за еще одной чашкой. Он попытался разговорить ее, как за ланчем, на сей раз – без толку. В итоге повисла тягостная тишина.
Встав, леди Синтия покинула комнату. Ее муж остался сидеть и тихо насвистывать через зубы. Вдруг он прямо-таки подскочил, будто в голову ему пришла некая неожиданная догадка.
– Никуда не уходите! – воскликнул он и выбежал.
Мне не пришлось долго ждать: через считаные минуты он возвратился и жестом пригласил следовать за ним. Мы прошли через несколько покоев, пока не добрались до той самой кельи в башне. Чуть сдвинув портьеру, занавешивавшую проход, сэр Оливер глянул внутрь. Кивнув сам себе, он повернулся и сказал:
– Возьмите ту книгу, что лежит на табуретке.
Я юркнул за занавесь – у окна, не обращая на меня внимания, застыла леди Синтия. Я чувствовал, что совершаю по отношению к ней предательство, но никак не мог уразуметь, в чем именно оно заключалось. Тихо подкравшись к табуретке, я взял книжицу в парчовом переплете, которую так часто видел у нее в руках. Очутившись снова за порогом, я передал добытое сэру Оливеру. Тронув меня за руку, он прошептал:
– Уходим, мой мальчик!
Я последовал за ним – вниз по ступенькам – через двор в парк. Стиснув книжицу, он схватил меня за руку и начал:
– Вы думаете, что влюблены, мой мальчик? В эту ее святость и кротость – безумно, без памяти? Можете не отвечать – ни к чему это. Ведь я тоже был влюблен – стократ сильнее вас, хоть и был тогда вдвойне старше, уже зрелым мужчиной, пожившим в браке. Но ради вашего же блага…
Он замолчал, повел меня по аллее и потом свернул налево, на небольшую тропинку. Под старыми вязами нас дожидалась скамейка. Он присел на нее и указал мне сесть рядом с ним, потом поднял руку и указал вверх:
– Поглядите! Вон она стоит.
Я проследил взглядом. Силуэт леди Синтии вырисовывался в обрамлении окна.
– Нас ведь заметят, – предупредил я, и сэр Оливер громко рассмеялся:
– Вовсе нет. Даже если бы здесь сидела целая сотня людей, она бы ничего не увидела и не услышала! А что у нее на самом деле перед глазами… о! – Сильной своей рукой сэр Оливер стиснул книжицу, будто то была гадина, которую надобно было раздавить. – Знаю, жестоко показывать это вам, мой глупый молодой друг, очень жестоко. Но вы когда-нибудь будете благодарны мне. Откройте же, читайте!
Я раскрыл книжицу. В ней оказалось всего несколько страничек из плотной бумаги для рукописей. Собственно, текст был не отпечатан, а выведен от руки, и я сразу признал почерк леди Синтии.
В книге той я прочел:
О казни Роберта-Франсуа Дамьена на площади Грев в Париже 28 мая 1757 года, по свидетельству очевидца герцога де Круа
Буквы расплылись у меня перед глазами. И какое отношение это имело к женщине, стоявшей у окна? Я не мог разобрать и слова. Книга выпала у меня из рук; сэр Оливер тогда поднял ее и стал читать громким голосом:
– По свидетельству очевидца герцога де Круа, Робер Дамьен, который 5 января 1757 года, Версаль, совершил покушение на жизнь его августейшего величества короля Франции Людовика XV и нанес ему кинжалом рану в левый бок…
Я встал, повинуясь необъяснимому порыву. Мне захотелось умчаться, спрятаться, как раненому зверю, в густом кустарнике, но сильная рука сэра Оливера поймала меня и оттянула назад к скамейке. Его голос продолжал неумолимо озвучивать:
– …был приговорен к казни в день 28 мая 1757 года. Аналогичный приговор в свое время вынесли убийце короля Генриха IV Франсуа Равальяку 17 мая 1610 года. Дамьена сначала пытали утром в день казни; грудь, руки, бедра и икры ему разрывали раскаленными щипцами, а в раны вливали расплавленный свинец, кипящее масло и смолу, перемешанную с воском и серой. В три часа дня Дамьена, который отличался отменным телосложением, доставили в собор Нотр-Дам, а оттуда – на площадь Грев. Улицы всюду были заполнены толпами людей, но они почему-то не высказывались ни за, ни против преступника. Во всех окнах виднелась плотно стоящая светская знать, празднично одетая и украшенная: элегантные джентльмены знатных родов и дамы, игравшие с веерами и державшие флаконы с мускусом на случай обморока. В половине пятого вечера началось грандиозное зрелище. На середине площади был воздвигнут подиум из досок, сюда привезли Дамьена. С ним туда поднялись палач и два исповедника. Этот огромный человек не выказывал ни удивления, ни страха, только выражал желание поскорее умереть. Шесть помощников палача привязали его торс железными цепями и веригами к доскам с вбитыми кольцами, да так, что он больше не мог двигать телом. Они схватили его правую руку и стали лить на нее горячую серу, слушая, как заходится приговоренный в зверином вопле. Тем временем подготовили второй этап пытки – раскалили клещи. Этими клещами начали вырывать из разных мест тела – сосцов, рук, бедер и икр – куски мяса, а затем лить в раны адское варево из расплавленного свинца, серы и кипящего масла…Дамьен с глазами навыкате и дыбом вставшими волосами кривым от мучений ртом подстрекал своих губителей. Его плоть лопалась при соприкосновении с воспламенявшимися жидкостями, его крик сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже совсем нечеловеческим голосом: «Еще! Еще! Еще!» – а воздух на площади был уже совсем отравлен угарным духом.
Но то были лишь приготовления к истинной казни. Для третьего этапа подготовили четверку лошадей, привязав к каждой по одной из конечностей Дамьена. Лошадей начали стегать, и они рванулись в разные стороны. Рывок следовал за рывком, руки и ноги Дамьена все сильнее вытягивались, он хрипел, одна лошадь упала, а в толпе пошел недовольный ропот. Так продолжалось целый час, по истечении которого немало свидетелей лишилось всяческих чувств. Присутствовавший на казни врач поспешил доложить о неурядице такого рода судьям, и те приняли решение ускорить казнь, произведя некоторые надрезы в местах сочленений, чтобы облегчить лошадям их труд. Дамьен приподнял голову, чтобы получше разглядеть, что с ним проделывают, однако не издал ни звука, пока ему резали сухожилия. Он только повернул голову и дважды поцеловал протянутое распятие, пока оба священника призывали его покаяться. После этого лошадей снова стали хлестать кнутами, в результате чего через полтора часа после начала пыток удалось оторвать Дамьену левую ногу. Люди на площади и сидевшие перед окнами аристократы зааплодировали. Вслед за этим была оторвана правая нога. Дамьен продолжал истошно вопить. Палачи надрубили и плечевые суставы и вновь принялись бичевать лошадей. Когда от тела оторвалась правая рука, крики осужденного стали затихать. Голова его завалилась вбок, запрокинулась в спазме – и тогда, в конце концов, была отделена рука левая. На помосте осталось лежать кровавое тулово с полностью поседевшими волосами, но даже в таком изуродованном обрубке еще как-то теплилась жизнь.
С головы Дамьена остригли волосы и собрали вместе все его конечности. К нему опять подошли церковники. Но господин Анри Самсон, палач, удержал их, сообщив им, что Дамьен только что испустил последний вздох. Таким образом, верующему преступнику было дано последнее утешительное слово. Ибо палач Самсон все еще видел, как туловище Дамьена поворачивается взад-вперед, видел, как его нижняя челюсть двигается в попытке произвести речь. Четвертованный все еще дышал, его глаза скользили по толпе.
В таком виде его возложили на костер. Пепел был развеян по ветру.
Таким был конец несчастного, перенесшего самые страшные мучения, какие только существовали на земле, и произошло это в Париже на моих глазах, как и на глазах многих тысяч людей, включая самых красивых и благородных женщин Франции, стоявших у окон.
С содроганием посмотрел я на стоявшую в окне леди, и вдруг ясно понял – каждый вечер упивалась она видом изуродованного тела; сладкой музыкой звучали в ее ушах вопли несчастного, а день был всего лишь прелюдией к этому зрелищу, проносившемуся перед ее мысленным взором и захватившему все ее существо. Так будет продолжаться всегда…
…и разве удивительно, господа, – заключил Бринкен, – что с того вечера испытываю я некоторый страх перед женщинами, у которых есть чувства, дух, развитая фантазия… а особенно перед англичанками?
Дело Ларса Петерсена
Хвала материнской церкви, милостивой и ласковой, что семь грехов искупила семью способами…
Одон КлюнийскийЕго Честь судья Генри Тафт Мак Гуфф разворошил дело Петерсена и придал его широкой огласке. Так он надеялся повлиять на рассматриваемый в сенате иммиграционный законопроект. Он поддерживал идею появления закона о том, что число иммигрантов, увеличивающееся каждый год после войны, должно ограничиться тремя процентами от средней плотности населения. Такая позиция Его Чести была вполне объяснима – до него место судьи в нижнем Нью-Йорке едва ли занимал хоть один коренной американец. Судье Мак Гуффу казалось, что в его огромном городе для истинного американца просто не осталось места. Все здесь теперь было только для евреев, ирландцев, немцев, итальянцев и еще десятка других рас, о которых он и не слышал и названия которых он затруднялся произнести, равно как и имена обвиняемых со свидетелями. Ему также казалось, что в эту расовую смесь попали лишь худшие представители своих наций, что Нью-Йорк напоминает теперь огромное помойное ведро, до краев наполненное гнилыми отбросами, исторгнутыми миром. Он считал себя призванным доказать это всей стране. Судья Мак Гуфф был известен всем газетам своими категоричными мерами наказания, которые в значительной мере превосходили и без того немилосердный суд страны. Поскольку долгие годы ему приходилось судить преступников исключительно среди иммигрантов, то наконец он пришел к твердому убеждению, что буквально каждого иммигранта нужно арестовывать, как только он спустится с парохода, и сразу же отправлять в исправительную тюрьму. Во время травли немцев ни один суд не был настолько суров, как суд Мак Гуффа, которому было достаточно одного факта, что подсудимый родился в Берлине или в Кёльне, чтобы в глазах судьи он непременно превратился в опасного шпиона, заговорщика кайзера, который взрывал мосты и фабрики. Таких еще называли гончими кайзера.
Два года спустя с таким же пылом Его Честь Мак Гуфф работал против большевизма. Разумеется, он точно не знал, что это такое, но он и не хотел знать! В то же время он знал, что хороший судья – это еще и хороший политик, который всегда чует, откуда дует ветер. И в этой стране он дул против большевизма и всего, что с ним связано. Он не слишком углублялся в детали, он просто, как и другие судьи, репортеры и политики, твердо выступал против коммунистов, синдикалистов, социалистов, радикалов, либералов и прочей рвани. Все они были просто помоями, на различия которых не стоило тратить время. Радовало то, что эти мерзавцы не видели дальше своего носа и посему действовали только по указке. Для судьи Мак Гуффа, как и для многих других, человеку было достаточно просто быть русским, чтобы его считали большевиком. Очень скоро он пришел к заключению, что в определенных людях преступные наклонности заложены изначально. К таким людям относятся венгры, итальянцы и особенно евреи. На каждом из этих несчастных в глазах судьи стояло клеймо «красный», и едва ли хоть одному из сотни удавалось в дальнейшем очиститься от этого. Но вот то, что ирландец, такой как предводитель рабочего движения Джим Ларкинс, тоже может быть «красным», совершенно не приходила ему в голову; и все немцы были для него всего лишь дикими приспешниками кайзера, и в этом он был настолько уверен, что не смог бы представить себе и одного немца «красным». Судья Мак Гуфф упрятал в тюрьму десятки безобидных немцев в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, так как они были «против власти народа», но при этом он засудил втрое больше безобидных русских, евреев и итальянцев, потому что они были «за власть народа». Он никогда не задумывался о том, что противоречил сам себе, лишь ощущал, что работал на Америку, которую он должен был освободить от этой иноземной чумы любым способом. Поэтому каждый вынесенный приговор приносил ему чувство глубокого удовлетворения.
Как истинный янки, он жил с твердым убеждением, что его страна – это единственная страна, в которой могли жить люди, за исключением Англии. Все остальные страны в его глазах представляли собой грязный, зловонный хлев. Тюрьмы, куда помещались его подследственные, казались ему даже слишком хорошими для этих сукиных детей, потому он делал все от него зависящее, чтобы отравить им время пребывания там еще больше. Вот почему дело Петерсена вызвало у него вполне оправданный восторг. Судья Мак Гуфф дал распоряжение, чтобы учителю музыки Ларсу Петерсену предоставили всевозможные поблажки. Профессора в тюрьме ни разу не избивали, он получил лучшую камеру (которая, однако, кишела клопами, блохами и тараканами, как все остальные); одеяло, которое ему выдали, было даже местами чистым. Он имел право время от времени покупать себе что-то из еды на собственные деньги, а по распоряжению врача ему даже разрешили иметь собственную зубную щетку. Судье не пришлось прибегать к дружеским полицейским дубинкам, чтобы выбить признание из этого преступника: он сам признался во всем с самого начала. Напротив, для Мак Гуффа было крайне важно, чтобы старик, который явно не был достаточно крепким, предстал перед судом относительно здоровым.
Ларс Петерсен был родом из Ютландии, что для Его Чести звучало подозрительно по-немецки. Сам подследственный утверждал, что он датчанин, однако не опровергал, что частично в нем может быть и немецкая кровь. Кроме того, судья Мак Гуфф помнил, что уже дважды засудил немцев, носивших фамилию Петерсен. По старой привычке он спросил подсудимого, водил ли тот личное знакомство с кайзером или кронпринцем, но, как только последний ответил отрицательно, сразу же забыл об этом. Отлов немцев в политических целях уже два года как вышел из моды. Он был вполне доволен тем, что обвиняемый признал, что три года обучался музыке в Германии. Судья был чрезвычайно рад заполучить это дело прямо сейчас, во время яростной охоты против всего «красного», будь оно еврейского, русского или итальянского происхождения. Ведь именно на этом примере он мог продемонстрировать широкой публике, как важен вопрос переселения немцев, когда немецкий (или квазинемецкий) профессор музыки, известный всему миру, может вместе с блестящим образованием обладать и гнилой душой.
Конечно же, Ларс Петерсен стал известен как «уважаемый и выдающийся профессор музыки» благодаря превосходной рекламе со стороны судьи, когда Петерсен уже находился в предварительном заключении. До этого он был самым обычным учителем, который снимал комнатушку на Одиннадцатой улице на востоке и едва сводил концы с концами на пятьдесят центов, которые зарабатывал за несколько часов занятий в день. Конечно, по европейским меркам его образование было весьма скромным, однако оно значительно превышало уровень образованности среднестатистического американца, поэтому все, что судья Мак Гуфф высказывал о способностях этого человека, казалось вполне достоверным. В ходе предварительного следствия учитель музыки время от времени позволял себе философские высказывания о морали, этике и эстетике, в которых судья не понимал ни слова. Поэтому они казались ему довольно подозрительными.
Процесс был тщательно продуман во всех направлениях. Подсудимый долгое время непоколебимо отказывался от защиты на том простом основании, что у него просто не было на это средств. В конечном счете сам судья Мак Гуфф, ввиду того, что процесс без защиты казался ему неполным, распорядился, чтобы подсудимому назначили защиту бесплатно. Безусловно, найти желающего на эту роль не составило труда. Ведь дело обещало получить широкую огласку, а значит, сделать защитника знаменитым. Был один скромный еврей, проживающий в восточной части города, Сэм Хиршбайн, – судья узнал о нем сразу, как приступил к своим обязанностям. Работа адвоката ему была явно не по плечу, во всяком случае, если говорить о том типе адвоката, который был нужен этой стране. Но именно поэтому Сэм Хиршбайн показался судье в данном случае наилучшей кандидатурой. Хиршбайн был дискредитирован из-за того, что в ряде процессов защищал немцев, русских и евреев, более того, призывал мыслить радикально или по крайней мере либерально. Поэтому для Мак Гуффа было особым удовольствием привлечь именно Хиршбайна к этому делу. Его крайне раздражали высказывания адвоката. Он всегда пытался привнести в дело нечто психологическое, о чем судья Мак Гуфф не имел ни малейшего представления. Сэм Хиршбайн принимал дела близко к сердцу, ради своих клиентов он сражался изо всех сил, нервничал, терял над собой контроль, чем давал судье превосходную возможность продемонстрировать всю силу своего высокого положения. Неоднократно судья так ловко осаждал адвоката, что все присутствующие в зале суда просто взрывались от хохота. В этом и была великая сила судьи Мак Гуффа – вставлять меткую шутку при каждой удобной возможности.
Не было сомнений: в спектакле имени Ларса Петерсена Сэм Хиршбайн отыграл бы свою роль блестяще.
Процесс был запланирован на среду, на десять часов утра. Места для репортеров были полностью заняты, и Его Честь необычайно радовало то, что это дело вызывает такой интерес у публики. Стать зрителем этого слушания можно было только по специальному приглашению от судьи, и благодаря превосходной рекламе жители Нью-Йорка прикладывали все усилия, чтобы получить его. Судья Мак Гуфф испытал чувство глубокого удовлетворения, когда ознакомился со списком присутствующих, чтобы уже передать его репортерам. По крайней мере тридцать имен непременно должны быть упомянуты в газетах как слушатели этого дела. А для каких-то редакций можно даже удвоить это количество. Среди этих имен были дамы из высшего общества и политические деятели первого порядка. Также он насчитал в этом списке не меньше пяти проповедников, и даже из мира театра нашлось немало желающих попасть на это представление.
Судья Мак Гуфф начал свою речь перед присяжными заседателями с таким напыщенным видом, как будто разбиралось дело об убийстве. Он обратился к публике, заверяя ее в том, что его главный интерес – бороться за правосудие и высокую мораль, призывая воздерживаться от скоропалительных комментариев, и продолжил парой слов о том, что город превращается в болото, отравленное чумой иммигрантов. Подытожил он ссылкой на законопроект, рассматриваемый конгрессом и сенатом в Вашингтоне, и выразил надежду о скором вступлении оного в силу. Он пересказал миф о короле Авгии и его знаменитых конюшнях, который он перечитывал накануне вечером, и пришел к выводу, что и самому Гераклу не удалось бы их вычистить, если бы туда продолжали забегать все новые свиньи. И этому как раз должно помешать современное правительство, а уж он, новый Геракл, позаботится обо всем остальном! Он с удовлетворением отметил, что репортеры усердно стенографировали: каждое его слово будет отражено в вечернем выпуске.
Но в то же время при опросе свидетелей он испытывал разочарование. Главная свидетельница и жертва старого сластолюбца Ларса Петерсена, двенадцатилетняя Юстина ван Штраатен, так и не явилась. Судья тотчас отправил поверенного к матроне детского суда, которой доверили попечение над пострадавшей. Затем он начал допрос.
К его удивлению, подсудимый, отвечая на вопросы, отклонял любые замечания по данному делу. Тогда защитник поднялся со своего места и объяснил, что подсудимый ведет себя так по его совету. Судья Мак Гуфф пришел в ярость и твердо вознамерился сломить сопротивление старика. Он хотел, чтобы подсудимый ответил на вопрос прокурора, намерен ли он опровергнуть показания, данные во время предварительного следствия, прежде чем его защитник успеет вставить слово. Только так его злость немного утихла. Он пояснил, что, безусловно, у каждого обвиняемого есть право отказаться от своих прежних показаний и что данное право несомненно гарантируется американским судом. Таким образом он не будет задавать ему вопросы касательно самого дела, и тем не менее попросит его ради его же собственных интересов ответить на пару других вопросов. Он выудил из своих документов листок, подготовленный с особым тщанием и содержащий множество имен, и начал задавать вопросы, на которые в данном случае обвиняемый охотно отвечал.
– Вы предпочитаете играть Моцарта или Бетховена?
– Как вы относитесь к философии Букле?
– Вы когда-нибудь писали что-то сами? Возможно, музыку к сонету Шекспира?
– Или песню на стихи Бёрнса?
– Нравится ли вам Данте?
– Что думаете о Спенсере, о Канте?
– Вы когда-нибудь задумывались о категорическом императиве?
Так продолжалось на протяжении получаса, практически на одном дыхании. Лишь изредка наступала короткая пауза, когда обвиняемый просто не мог разобрать, что говорит судья. Потребовалось некоторое время, чтобы стало понятно, что под «Найцэ» понимается Ницше, а под «Тоостым», которого Его Честь вообще считал французом, Лев Толстой. С помощью этого упражнения судья намеревался продемонстрировать исключительную образованность и начитанность преподавателя музыки, в то же время выставив и себя в выгодном интеллектуальном свете. Цель была достигнута безоговорочно. Столы газетных редакций будут ломиться от репортажей с громкими заголовками в духе: «Отправлять ли за решетку Уолта Уитмена от мира музыки?», ну или «Спинозу считают немузыкальным». Такое никто просто не мог пропустить, но самый главный козырь Мак Гуффу должна была обеспечить статья в провинциальной прессе под заголовком «Концерт в зале суда».