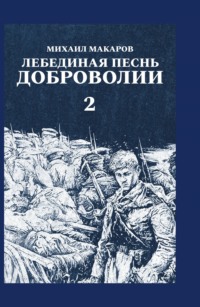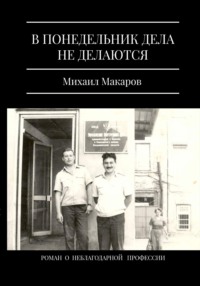Полная версия
Зона Комфорта
И, клокочущий от негодования, удалился.
– Поручик Наплехович, – угрюмо скомандовал Белов, – примите у штабс-капитана оружие и портупею. Отконвоируйте в сарай до разбирательства.
Косолапо подошёл Наплехович. Было видно, что ему неловко. Подбородок у него оставался испачканным успевшей подсохнуть кашей.
– Как кулеш, удался? – спросил я.
– А? – поручик не понял.
Зато дотумкал взводный Белов. Он буквально зарычал:
– Маштаков, у вас с головой всё в пор-рядке?!
Я пожал плечами:
– Не знаю. Четыре дня назад крепко по кумполу дали. До сих. это самое. пор гудит.
– От вина она у вас гудит. А больше от дури! – Штабс-капитан согнал за спину складки гимнастерки, обернулся и прикрикнул на замешкавшихся: – Живее, живее, господа! Бегом!
Я рассупонился и протянул Наплеховичу портупею:
– Веди в острог, начальник.
Поручик посмотрел на меня непонимающе. Блатное обращение, развязная интонация ему в диковинку.
Он кивнул на бурливший котёл:
– Налейте в манерку, господин штабс-капитан, не то без обеда останетесь.
Я немедленно последовал его доброму совету, едва не проглотив язык от обалденного запаха.
7
Без ремня, с парящим котелком каши в руке, под конвоем поручика Наплеховича, навьюченного оружием – собственным и моим, шёл я по улице. В поисках места содержания под стражей.
В прошлой жизни мне доводилось побывать в неволе. Дважды попадал на «губу»1 в Советской армии. Сперва отсидел восемь суток у лётчиков в Тагиле, а через полгода – неделю в артполку в Свердловске.
Восьмое марта две тысячи первого года по протекции жены с тёщей встретил на офицерской гауптвахте. Это был последний день моей многотрудной деятельности в органах МВД.
Страха сейчас я не испытывал. Рубль за сто, не расстреляют. Какое к черту неповиновение в боевой обстановке?! Нет, то, что выпивши – признаю полностью. Так ведь положено на фронте! Сто граммов каждый день, в гвардейских частях – сто пятьдесят. Во всех книжках о войне так пишут! Не-е, не расстреляют. Помурыжат для порядка под замком. Хоть порубаю спокойно. Отосплюсь, если получится.
По дороге масса народу встречалась, никто внимания на нас не обращал. Только двое нижних чинов, возившихся вокруг тачанки со снятыми колесами, удостоили.
– Никак шпиёна пымали! – сказал один, в грязной бороде.
Губастый напарник ему поддакнул со знанием дела:
– Лазунчика!
Я обернулся к ним и оскалился хищно:
– Р-р!
Бородатый вздрогнул и перекрестился:
– Свят, свят, свят.
Мы прошли почти до конца улицы, мимо места, где я убил красноармейца. Трупы убрали. О случившейся утром штыковой сшибке напоминала пересохшая, в трещинах цвета говяжьей печенки лужица, подле которой неотвязно крутилась ледащая дворняга. Принюхивалась жадно.
В первый год работы в прокуратуре, поездив на происшествия, я усвоил, что домашняя живность неравнодушна к человеческой крови.
– Здесь, что ли? – Наплехович остановился.
– Сейчас гляну, – я завернул во двор.
На пороге крытой камышом сарайки сидел юнкер из моего отделения. Он приставил к колену лезвием перочинный ножичек и, придерживая его за рукоять указательным пальцем, сделал резкое движение рукой. Нож вонзился в утрамбованную землю. Юнкер выдернул его и крутнул с локтя. Снова удачно.
– Тут арестантские роты чи нет? – спросил я громко.
Юнкер, подхватив отставленную к двери винтовку, вскочил тугой пружиной. Щёки его залило пунцовой краской.
– Господин штабс-капитан! – вздёрнув подбородок, начал рапортовать.
– Отставить, – остановил я его. – Это неактуально. Принимайте сидельца.
Юнкер не понимал. Голубые глаза его распахнулись до предела. Рассмотрев, что я без ремня и оружия, а за мной следует Наплехович с двумя винтовками на плече, он не сдержал бранного слова:
– ! А вас-то за что?
– Начальство критиковал, – ответил я с деланной скорбью, беззастенчиво заимствуя фразу из любимого Довлатова.
– Нет, на самом деле? – юнкер не унимался.
– А на самом деле, господин Львов, караульную службу надлежит нести как предписано уставом! – помрачневший Наплехович окоротил юнкера.
Я покосился на поручика. Вот бы не подумал, что этот олимпийский мишка, талисман дружбы народов, может так жёстко окрыситься.
Юнкер вытащил из накинутого пробоя согнутый ржавый гвоздь, скинул накладку и отворил дверь, висевшую на верхней петле. Я шагнул в полумрак сарая. Здесь пахло земляной сыростью и мышами. Высохшим куриным пометом. Тронутым плесенью, отслужившим век хозяйственным хламом.
Дверь визгливо проныла, закрывая путь на волю. Хотя, какая там к ляху воля?
– Есть живой кто? – Дабы сослепу не влететь лбом в косяк, я шарил по темноте свободной рукой. – Прапорщик Оладьев, отзовитесь!
Сто лет не нужен мне этот Оладьев, судьба которого, по ходу дела, решена бесповоротно. Но раз я заехал в хату, с сокамерником надо – по-людски. Хотя бы из соображений безопасности. Чтобы можно было придавить на массу, не боясь, что он примется душить меня сонного.
В углу произошла возня, тяжелое там упало, и ойкнул от боли человек.
– Я здесь, – жалким голосом обозначил себя Оладьев.
Адаптируясь к сумраку, я переместился на голос, различая крупные
габариты фигуры, сидевшей на полу с притянутыми к лицу коленями.
– Вы. с-с. кто? – всхлипнул Оладьев.
– Ваш товарищ по несчастью. Штабс-капитан Маштаков, – на всякий случай я не приближался на расстояние удара.
Обоснованно полагая, что у прапорщика не имеется причин испытывать ко мне теплые чувства.
– Ма. Маштаков? – переспросил он недоверчиво и, откинувшись к стене, зашелся визгливым истерическим смехом. – Ой, не могу! Ма. мамочка! Не могу-у-у-у! За верную-то службу. Под замок пса цепного, под замок!
Я стоически пережидал, когда он проблеется. Хотя по уму «пса цепного» стоило с зубами вместе вколотить ему в глотку. С ноги.
Оладьев, медленно успокаиваясь, подвизгивал.
А я – душа смиренная, мякиш для беззубых – предложил ему радушно:
– Порубаем? Я кулеша урвал полный котел. Только хлеба нема.
– Что-с?! Нет, я не буду. Не желаю! – активно затряс большой башкой Оладьев.
Я присел перед ним на корточки. Смакуя, повел носом над котелком:
– Кулешик-то удался! Жирный! На сальце! С дымком!
А у самого, как у собаки Павлова, слюна во рту клокотала.
Оладьев с минуту покобенился и сломался:
– Ну давайте!
Вытаскивая из-за голенища прибранную вчера к рукам деревянную ложку, я хмыкнул про себя злорадно. Вот крыса, только что псиной обзывал, злорадствовал, что меня закрыли, а теперь хавку из моих рук принимает. Слизь!
Конкретно мы с прапором порубали. Азартно, наперегонки, с аппетитным чавканьем, с подсосом. Когда ложки застучали по дну, отвалились от котелка тяжело, в разные стороны.
– Курнуть бы теперь. – Я мечтательно оглаживал тугой живот.
Оладьев снова уткнулся одутловатым лицом в ладони, заблажил:
– Го-осподи, у меня детишки. Трое! Мал-мала меньше. У Сони затемненье в легких обнаружили. Я не военный человек! Не военный.
По почтовому ведомству служил. Я не умею всего этого. Стрелять! Убивать! Маршировать. Вам хорошо!
Понесло его конкретно. А меня утащило в сон. Повело на ель, в мягкую постель, там своё возьмем[56]. Я как в яму бездонную аспидную ухнул. У-ух!
Разбудили насекомые. Блохи-суки сон мой заслуженный потревожили. Расчесав грудь и под мышками, я размежил слипшиеся веки. Сколько я продрых, интересно? Часа два? Или больше?
Эх, да у меня «котлы» на руке. Я отвернул обшлаг гимнастерки. Стрелки на круглом циферблате склеились. Большая крыла маленькую. Половина шестого, что ли?
В углу тихонько выл Оладьев. Я сделал вид, что снова закемарил. Желанием выслушивать его стенания не горел.
Я искренне изумился – как люди годами сидят? Получат лет десять строгого и – не жди меня, мама, хорошего сына. Сначала в СИЗО. А там – камеры переполнены, до ста рыл в одну «хату» администрация набивает. Спят в четыре смены. Вентиляции нет. Сырость. Вши, клопы табунами ходят. Туберкулёз. Неподъемное понимание невозможности совершать простые действия, абсолютно неценимые людьми в обычной жизни.
Хвала Аллаху, я до тридцати шести лет дотянул и не сел. Хотя мог бы, особенно в младые годы.
Как любил прикалываться за рюмкой напарник мой Лёха Тит: «Сейчас бы был вором в законе!» А что? Отличная альтернатива! Дружился бы с большими мужиками. С губером, с начальником областного УВД, с депутатами разными. Ездил бы на шестисотом «мерсе».
А так в активе у меня только два года срочной службы. Советская армия, по большому счету, несильно от зоны отличалась. Вваливать там приходилось даже больше. В колониях сейчас с работой – беда.
«Губа» в армии это навроде «шизо»[57] в колонии. Или даже «БУРа»[58]. Тюрьма в тюрьме.
Первый раз я загремел на гауптвахту летом 1984 года на летних тренировках под Нижним Тагилом начинающим борзеть «черпаком». Мы стояли в чистом поле в палатках. Возможностей для творчества открывалось в миллион раз больше, чем в полку, где на каждом шагу комендантские патрули.
За лесом, через поле – деревня с сельмагом, в котором в ассортименте портвейн в «бомбах» емкостью 0,8 литра. Тропу туда мы проторили на второй день. Затарились на всех, кому по сроку службы положено, возвращаемся в расположение, а тут трактор «Беларусь» подвернулся. В попутном направлении мужики едут. Чтобы ноги не бить, мы попросились в тележку. Водилы с моего призыва – Гена Лемешкин, Саня Усов и я, старший оператор ЗСУ-23-4-м. В чёрных рабочих комбезах, пилотки поснимали, мужики для маскировки Гене фуражку заняли, Усову – шляпу.
Трясёмся на ухабах, за металлические борта держимся, мешок, набитый «бомбами» «Агдама», как зеницу оберегаем. Гляжу – трактор не туда рулит.
– Эй! – орём.
Мужики, которые с нами в тележке, говорят:
– Щас в контору за путевкой Натоха заскочит!
На ступеньках конторы курили наши офицеры во главе с врио комбата старшим лейтенантом Кузьмичёвым.
Я упал на дно тележки, в ошмётки унавоженной соломы. Но напрасно. Кузьмичёв был настоящим зенитчиком с прекрасным зрением и отменной реакцией. За трактором он, разумеется, не погнался, а только показал нам загорелый жилистый кулак.
В томлении перед неминуемым разоблачением мы по дороге раскатили один пузырь на троих и с отвычки опьянели. До вечерней поверки, пользуясь отсутствием офицеров, под гитару в палатке горланили песни Юрия Антонова, пренебрегая увещеваниями дежурного по батарее.
На построении врио комбата вывел нас дураков перед строем и каждому лично заехал в грызло.
На следующее хмурое утро в сопровождении лейтенанта Гриневского мы на шестьдесят шестом «газоне» покатили на гауптвахту местного авиаполка. Своей властью Кузьмичёв выписал каждому по трое суток за нарушение распорядка дня.
На «губе» нас радушно встречал колобок в погонах старшего прапора.
– Заходьте, заходьте, сынки! – с каждым он поздоровался за руку. – Завтрак простынет.
Мы недоумевали. Дисциплинарный арест нам представлялся иначе.
А тут – рассыпчатая, на чистом сливочном масле пшённая каша, глубокая миска вареной рыбы, по две шайбы масла, хлеб – только белый, сахар-рафинад.
Лейтенант Гриневский, выполнив возложенную на него задачу, заворожено глядел на накрытую «поляну».
– Похавайте с нами, таш нант, – радушно предложил оправившийся после вчерашней экзекуции Гена Лемешкин.
Гриневский отказался и укатил весь на измене, что воспитательное значение наложенного взыскания под угрозой.
После завтрака мы развалились на лавках, скинули ремни, расстегнули хэбэшки до пупа. В сытой истоме закурили.
– Ка-айф!
– Ну что, сынки, порубали? – на пороге возник старший прапорщик. – Пошли теперь поработаем. Берите лопаты.
Во дворике нас ожидало двое выводных с примкнутыми к «акаэмам» штыками. Жилистый младший сержант «дед» в ушитой хэбэшке и очкастый чмарной «дух».
– Споем, жиган, нам не гулять на воле! – затянул Гена.
Он знал пропасть блатных песен. Старший брат был у него рецидивистом.
Очкарик «дух» спал на ходу. «Дед», повесивший автомат на грудь, слушал с нескрываемым интересом. Лемешкин обладал приличным хриповатым тенорком.
Нас привели на железнодорожный переезд, где стояли три отцепленные платформы с гравием.
– Сынки, – подоспел запыхавшийся прапор, – каждому по платформе. Делаем, очищаем подъездные пути и усё. Свободны.
– Да вы чё, тарищ прапорщик, – у меня упала челюсть, – тут на неделю работы!
– Сорвете разгрузку— сутки «дэпэ».
Мы с грохотом откинули борта и обречёно покарабкались на платформы.
Гравий был крупный, каждый камень размером с кулак врио комбата Кузьмичёва, штыком лопаты получалось подцепить лишь пару-тройку камней. Штык отказывался вонзаться в гравий, скрежетал, сшибая верхушки. Через полчаса адского труда, сравнивая мизерную россыпь на земле с пятью тоннами, громоздившимися на бесконечной платформе, я впал в отчаяние.
«Дед» выводной курил на пригорке с голым торсом, рихтовал на солнышке загар. Автомат лежал у него под рукой. Перед ним, изгибаясь на трясущихся руках, отжимался молодой.
– И р-раз!
А я лопатой в камень – р-раз!
Этот самый, как его, Сизиф ни в жизнь бы с нами не поменялся. Вот когда я проклял по-настоящему, что бросил институт.
К полуночи в кромешной тьме, ползая на карачках, мы выгребали остатки гравия от рельсов. Обессилевшие, с сорванными в кровь ладонями.
На губе нас ждали обильные обед с ужином и сутки «дэпэ», дополнительного ареста. Комендант или начкар1 имели право накинуть только одни сутки, но неограниченное количество раз. Единожды попав на гауптвахту, реально можешь не выйти оттуда до дембеля.
Наутро нас разбудили только к завтраку. Старший прапорщик принес йоду и бинтов, подлечить руки.
– Не торопитесь, сынки, покурите, – сказал он, – платформы часам к десяти подадут, не раньше.
Мы поняли, почему нам мягко стелили. В авиационном полку соотношение офицеров и солдат тире сержантов было не такое, как у нас. Каждый солдат у них наперечёт, а тяжёлых хозработ подваливало не меньше, чем в любой-другой части.
Губари в лётном полку пахали, как папы Карлы. Зато здесь полностью отсутствовали ограничения в еде и сне, многочасовые строевые занятия и унизительные шмоны. Всё то, чего я полгода спустя вдоволь хлебнул на «губе» артполка в Свердловске.
Постепенно гауптвахта наполнилась. Заехали двое наших – оператор дальности «шилки» Зиннур Касимов за кражу сухпая и несгибаемый беглец Коля Баранов, страдающий энурезом. Земляк мой со сто пятого полка Андрюха Погонин за самоход. Троица кентов с зенитного дивизиона за неуставщину.
Норму мы не выполнили ни разу, автоматом получая сутки «дэпэ». Перевод с разгрузки гравия на асфальтирование дорожек в офицерском городке показался нам благодатью божьей.
Через восемь суток с утра прикатил наш «шестьдесят шестой», из кабины которого упруго выпрыгнул старший лейтенант Кузьмичёв.
Насмешливо оглядев нас, с чёрными от грязи и загара мордами, исхудавших, с оттянутыми до колен, как у орангутангов, руками, он прошёл в караулку. Под мышкой у Кузьмичёва был продолговатый газетный сверток, который почему-то булькнул.
Через пять минут он подкатил к нам развинченной своей походочкой гимнаста.
– Ну чего, архаровцы, хорош балдеть? Стрельбы на носу! Прыгайте в кузов.
Холерик Гена, мгновенно ставший пунцовым, сдёрнул с головы засаленную пилотку и уткнулся в неё. У меня тоже к горлу солёный крутой клубок подкатился.
Ни на тренировках в Тагиле, ни потом на стрельбах в Чебаркуле мы даже не смотрели в сторону сельмагов. Будто заговоренные.
Блин, а вот в артполку на «губе» полный беспредел был.
8
..От воспоминаний, до которых я большой охотник, отвлекли вой сокамерника и нараставшая извне песня. Слова А. С. Пушкина, музыка народная, на мотив «Варяга».
– …и ско-оро ль на ра-адость сосе-едей-враго-ов
Моги-и-ильной засы-ыплюсь земле-е-ою?..
Взвизгнула немазаной петлей увечная дверь. В проёме согнулась чёрная фигура, разглядывая нас в потемках:
– Выходите!
– Могильной землею засыпаться? – сорвалось у меня с языка.
– Что? – не сразу разобрал вошедший, а, оценив, отрывисто хохотнул. – Шутки у вас, Михал Николаич, однако.
Это оказался Риммер. Когда я, почесываясь, приблизился к нему, разглядел, что он принарядился в кожаные брюки.
– Выходите, выходите, господин штабс-капитан! – прапорщика распирало от возможности первым сообщить радостную весть. – Арест ваш отменен. Взводный ходил на доклад к полковнику Никулину. Вы амнистированы.
– С погашением судимости? – деловито перебил я.
Риммер снова заржал. Чувство юмора у меня природное. Тонкое, но не всем понятное.
Юнкер Львов расплылся в белозубой молодой улыбке. Поодаль топтался Наплехович, явно сконфуженный. В охапке поручик держал мой заплечный мешок и «сбрую» с кобурой.
– Извините, Михаил Николаевич, – сморщился он бритым лицом.
– Пустое, поручик, – Чужая деликатность меня тронула.
«Вот чудак-человек, будто по собственной воле ты меня в холодную посадил!»
Риммер помог облачиться в боевые ремни. Ощутив тяжесть нагана на правом бедре, я сразу перестал чувствовать себя изгоем. Дабы утвердиться в своей реабилитации, положил ладонь на клапан кобуры, оказавшийся неожиданно прохладным.
Как ни бравировал я, что не боюсь ареста, что байда всё это, дотошный червячок точил сердечко. Кто знает, какие у них здесь порядки?
Наплехович протянул раскрытый портсигар. Я с удовольствием угостился. До отказа затянувшись, вентилируя дымом изголодавшиеся по никотину легкие, поинтересовался:
– Как командира корпуса встретили?
Риммер прыснул:
– Скандал, господин штабс-капитан! Комедия Мольера! Попович наш, когда церемониальным маршем рота проходила, споткнулся, винтовку выронил! Шеренги сбились! Ка-аша…
– Ну, ну, а дальше что? – я поддался его азарту.
– А что дальше? Кутепов стоит туча тучей. Набычился! Скоблин, наоборот, весь багровый. Дёргается, на носках пружинит. Если бы не ком-кор, он бы точно поповичу в рыло заехал. Ну потом, ясное дело, ротный душу отвел! Все по-матушке, по-голубушке! Посулил, всё свободное время будем строевой заниматься!
– А Кутепов?
– Укатил на авто! Ха, конвою с ним всего взвод кавалеристов! Отчаянный!
Я испытал разочарованье оттого, что не увидел воочию генерала Кутепова Александра Павловича, про которого столько читал. Ему сейчас тридцать семь, мы почти ровесники. Мало кто знает, что в феврале семнадцатого года сводным батальоном преображенцев и кексгольмцев он пытался укротить замешанную на кровавых дрожжах опару революции. Найдись тогда в Петрограде десяток таких полковников! С первых дней Кутепов в Добровольческой армии, и – до последних. Не разуверится, не снимет погон, не продастся. В 1930 году в Париже будет тайно похищен внешней разведкой ОГПУ и сразу убит.
Когда в брежневские времена я по крупицам собирал информацию о Белом движении, в «Большой Советской энциклопедии» прочёл куцую статью про Кутепова. И изумился – дата его смерти стояла под знаком вопроса. Больше полувека коммунисты скрывали, как был убит генерал. Стыдились, что ли?
Жаль, не удалось хоть одним глазком взглянуть на Кутепова! А с другой стороны, неплохо, что от строевого смотра сачканул. Опозорился бы за компанию с Кипарисовым.
Докурив, я закинул на одно плечо «сидор», на другое – винтовку. Жара под вечер поотпустила, солнце перестало яриться. Ветерок объявился, ароматы свежего навозца принёс. Сельская идиллия.
– Искупаться бы, – размечтался я.
Риммер хмыкнул:
– Как бы не так. Через четверть часа построение.
– Чего опять такое? Ночевать где будем? Здесь, в Гати?
Прапорщик пожал неохватными плечами:
– А я зна-аю?
Мы побежали и успели только-только. Рота уже строилась на площади. Задрав головы, офицеры с интересом рассматривали островерхую башенку колокольни, красный кирпич которой был исклёван оспинами пулевых попаданий. Оттуда, из-под медью крытого купола, увенчанного крестом, работал «максим» большевиков.
Как только наши исхитрились сбить его? Я вспомнил выверенные действия пулемётного расчёта, оборудовавшего позицию на вековой ветле. Причмокивание скоб-ступенек, вколачиваемых в мощный ствол. Подпоручика в кожанке, по-обезьяньи ловко вскарабкавшегося наверх. С такими ребятами можно воевать.
– Р-рота, р-ряйсь! Иррна! – перед строем стремительно появился друг мой Знаменский. – Напря-аво! Ша-агм арш!
И через десяток метров хищно рявкнул:
– Р-рот-та!
Офицерская рубанула строевым. Эффект не тот, конечно, что на плацу, но всё равно впечатлил. Я старался изо всех сил – до отказа тянул носок, высоко поднимал ноги и резко впечатывал подошвы в утрамбованную землю.
Полковник Знаменский, шедший слева от строя, недовольно, как будто ему за шиворот насыпали трухи, повёл тугой шеей:
– Не слышу рот-ты! Поручик Феофилактов, вы не в юбке! Выше ногу!
Один в один как наш зампотех Жабин! Тот тоже чуть что: «Не слышу
батареи!».
От пенсне на переносице полковника отрикошетировал в небо солнечный зайчик.
Я начал задыхаться. В натуре, я не кремлевский курсант, чтобы полкилометра в горку строевым переть!
За околицей Знаменский скомандовал «вольно» и «левое плечо вперёд». Офицерская повернула в чисто поле, завиляла по вымоинам, теряя монолит.
Нет, возжелай он погонять нас, оставил бы на просёлке.
Полковник остановил роту и скомандовал «направо». Молча пошёл перед строем, придирчиво разглядывая тянувшихся перед ним офицеров.
Радуясь, что место моё во второй шеренге, я подогнул колени, пытаясь спрятаться за стоявшим впереди Наплеховичем.
Не помогло. Знаменский не упустил случая прижучить:
– Штабс-капитан Маштаков, подберите штык. Болтаете штыком, как кочергой!
Я поддернул винтовочный ремень, чтобы утвердить штык в вертикальном положении. Не знаю, добился ли нужного результата. По крайней мере, полковник больше ничего не сказал, прошёл на левый фланг.
Подпоручик Цыганский, свернув набок рот, прошептал:
– Па-амятливый.
Взводный Белов моментально обернулся, ожёг Цыганского свирепым взглядом. Тот окаменел лицом.
От села в нашу сторону по гумнам двигалась кучка военных. Узнав в переднем (без погон, распояской) прапорщика Оладьева, я понял, зачем привели сюда роту. Плечи и грудь у меня зазудели, будто от чесотки.
Оладьев шел грузно, заложив за спину руки. Понурившись, полуоткрыв рот.
Что испытывает, что чувствует человек за несколько минут до казни? Вот и всё, вот он – край пропасти, шагнуть за который самому в здравом уме невозможно. А как же это небо и цвета персепелой малины солнце, клонящееся за курган? Куда денутся стремительные стрижи и яростный собачий брех? Как они останутся без меня? Куда я уйду?!
Наверное, надежда на то, что палачи опамятуются, поймут, что замыслили жуткое, беспредельное, удерживает смертника в разуме.
Впрочем, вряд ли бывший прапорщик, судя по дикому взгляду его, открывшемуся, когда он отважился поднять голову, судя по развесистым слюням, оставался в рассудке.
На шаг позади Оладьева с винтовкой наперевес шагал юнкер Львов. С другого бока – незнакомый подпоручик. На фоне их чётких движений Оладьев тёк растаявшей медузой. Живые конвоировали покойника.
Полковник Знаменский вернулся на середину перед строем. Казалось, не замечая остановившихся позади него Оладьева и конвоиров, снял с переносицы пенсне, достал платок и стал старательно протирать стеклышки. Потом спрятал оптику в нагрудный карман, откуда взамен, как фокусник, выдернул листок бумаги.
– Военно-полевой суд первого ударного генерала Корнилова полка, рассмотрев дело прапорщика Оладьева Петра Артемьевича.
Никто мне этот Петр Артемьич, сука он, погоны сорвал и в стог залез, когда мы шли на пулеметы, но неуж обязательно за первый косяк мазать ему лоб зеленкой?!
Ну разжаловать, ну в дисциплинарную часть сунуть, пусть кровью искупает. Гражданский человек, по почтовому ведомству служил, страшно стало. Это так все понятно!
В мое время в конце девяностых высоколобые гуманисты запретили казнить самых страшных кровавых преступников. Людоедов!
– Расстрелять! – Знаменский прочёл приговор с выражением, на одном дыхании, оторвался от листка и торжествующе посмотрел на роту.
Мне показалось, он выискивал в строю меня.
А с правого фланга по команде отделился десяток офицеров. Вот, вот почему называется – отделение! Потому что отделяется. В колонну по одному, в ногу переместились ударники к центру. Повернулись, встав перпендикулярно к роте… слаженно, сняв с плеча винтовки и приставив их к ноге.
Оладьев рухнул на колени, отчаянно обхватив кудрявую башку руками. Взвыл.
– Вста-ать! – насмешливо крикнул полковник. – Умереть и то не можете!