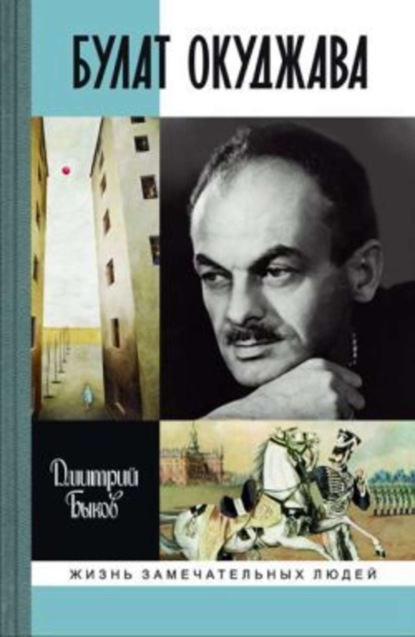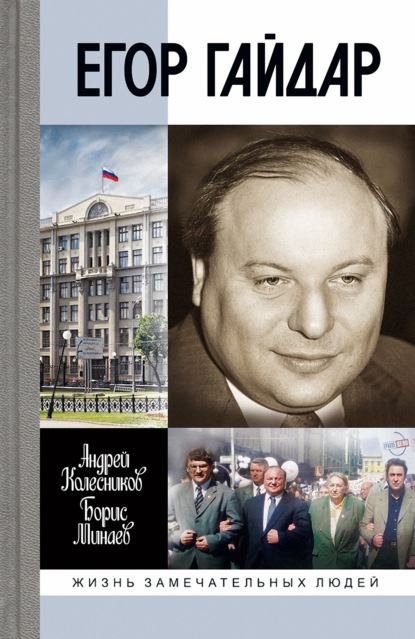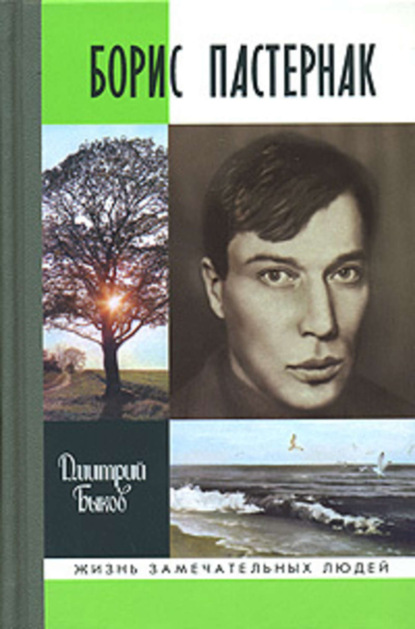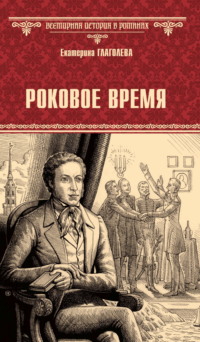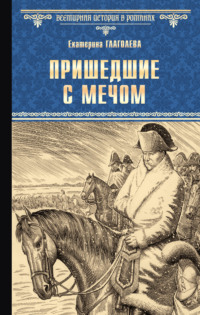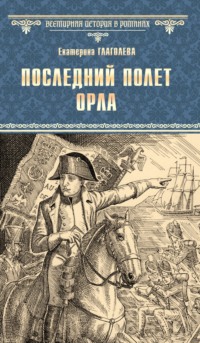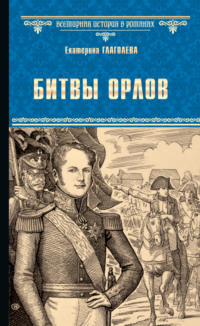Полная версия
Аль Капоне. Порядок вне закона
На протяжении всей истории «Пяти углов» там шли гангстерские войны за контроль над территорией. В 1890-х годах итальянец Паоло Антонио Ваккарелли (он же Пол Келли) объединил остатки разгромленных «Дохлых кроликов» и прочих банд и командовал армией из полутора тысяч головорезов, устроив свою штаб-квартиру в дансинге «Нью-Брайтон». Они занимались грабежом, рэкетом и организованной проституцией, используя в качестве прикрытия легальные предприятия и оказывая «силовую поддержку» политической структуре Демократической партии – Таммани-Холлу, у которой были свои «клубы» в каждом районе Нью-Йорка. (Руководителей клубов Таммани называли боссами.) «Белое рабство» (проституция) было хорошо организованным бизнесом с годовым оборотом семь миллионов долларов. При этом банда «файвпойнтеров» сражалась не на жизнь, а на смерть с бандой Эдварда («Монка») Истмана, состоявшей преимущественно из евреев и насчитывавшей около 1200 человек. «Истманцы» тоже заправляли борделями, торговали наркотиками, крышевали предпринимателей и совершали заказные убийства. Городские власти закрывали на это глаза, поскольку бандиты оказывали политикам поддержку на выборах, силовыми методами добиваясь избрания нужных кандидатов. Однажды потасовки между соперничающими бандами переросли в крупную перестрелку под эстакадой железной дороги на Второй авеню. Однако в 1904 году Монк Истман, охотно пускавший в ход кулаки, угодил за решётку после обычного уличного ограбления. Его банда распалась на части, и «файвпойнтеры» стали хозяевами положения. Келли требовался помощник, и он обратил внимание на 22-летнего Джона Торрио по прозвищу Лис.
Донато Торрио родился 20 января 1882 года в Южной Италии. Ему не исполнилось и двух лет, когда его отец, работавший на железной дороге, погиб в результате несчастного случая. В декабре 1884-го мать уехала вместе с ним в Нью-Йорк и там снова вышла замуж – за калабрийца Сальваторе Капуто, владельца бакалейной лавки, которому родила троих детей: Николаса, Изабеллу и Грейс. Донато, которого теперь звали Джоном, работал грузчиком в лавке отчима, якшался с мелкими воришками, потом какое-то время был вышибалой на Манхэттене, хотя и не отличался богатырским телосложением. Подростком он примкнул к уличной банде с Джеймс-стрит и быстро её возглавил; накопил денег, открыл бильярдную и превратил её в игорный клуб и ростовщическую контору. Пол Келли занялся его воспитанием: научил прилично одеваться, запретил материться – для всех он был бизнесменом. Торрио руководил законным бизнесом, а под его прикрытием – букмекерскими и ростовщическими конторами, борделями, угоном автомобилей и торговлей опиумом (по соседству с Леви – кварталом «красных фонарей» – находился Чайна-таун). В 1909 году Торрио значился менеджером боксёрского клуба «Саратога» из Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк (именно в этом качестве он упоминался в газетах); ставки на важных боксёрских поединках доходили до тысячи долларов. По спортивным делам он выезжал и в Чикаго.
В том же году в журнале «Макклюр» вышла статья Джорджа Кибба Тёрнера «Дщери бедноты: история развития Нью-Йорка как ведущего мирового центра белого рабства под властью Таммани-Холла». Статья имела большой общественный резонанс, и судья Томас О’Салливан учредил специальное Большое жюри для расследования ситуации под руководством Джона Д. Рокфеллера-младшего (судья надеялся, что тому не удастся добиться успеха, поскольку сам поддерживал Таммани-Холл). Члены Большого жюри подошли к делу очень ответственно; после опроса множества свидетелей и двух успешных операций по внедрению были произведены аресты нескольких «белых работорговцев». В общей сложности Большое жюри составило обвинительное заключение из 44 пунктов, но все труды пошли прахом: мэр Уильям Гейнор, хотя и был на ножах с Таммани-Холлом, спустил всё на тормозах, большинство обвиняемых были оправданы. В их числе был и Джон Торрио: главный свидетель по его делу отказался свидетельствовать против него в суде, хотя в газетных статьях прямо говорилось, что Торрио управляет тремя борделями.
Секс-индустрия получила ещё больший размах в Чикаго: некоторые из местных заведений имели международную известность. Например, когда прусский принц Генрих, брат кайзера Вильгельма, совершал в 1902 году поездку по США, в Чикаго его ожидали руководители крупных промышленных предприятий, устроившие бал в его честь. Однако принц с бала быстро ушёл, чтобы успеть побывать в клубе сестёр Эверли и насладиться обществом куртизанок, наряженных (на первом этапе) в костюмы фавнов. Джон Торрио считался племянником Виктории Мореско, хозяйки двух чикагских борделей, которая в 1902 году вышла замуж за Винченцо Колозимо, со временем превратившего её «мелкий бизнес» в целую «империю греха».
Винченцо Колозимо родился в 1878 году в поселке Колозими, в «носке» итальянского сапога. Ему было 13 лет, когда он приехал в Чикаго. Итальянцев в «Городе ветров» тогда проживало немного – 4,8 процента населения. Винченцо, принявший в Америке имя Джим, работал дворником. Метельщики носили белую униформу, и Колозимо объединил их в клуб «Белые крылья». Потом они создали свой профсоюз, а поскольку профсоюзы в Чикаго контролировала мафия, работников метлы взял под своё крыло местный авторитет из ирландцев – Большой Тим Мёрфи. Таким образом Большой Джим Колозимо оказался связан с мафиозной средой, а через неё – и с политической: олдермены (члены районного муниципального совета) Джон Коглин и Майкл Кенна (ирландцы) назначили его инспектором улиц и аллей. Женившись на Виктории, Колозимо собирал с борделей дань для Коглина и Кенны, получая от них свою долю. В пяти борделях, которые он контролировал, Большой Джим устроил игорные залы и установил игровые автоматы для привлечения клиентов.
В 1910 году около пяти тысяч женщин в Чикаго занимались проституцией, в городе было как минимум 29 публичных домов. Девушки отдавали половину заработанных денег хозяину (чаще хозяйке), но всё равно торговать своим телом было выгоднее, чем работать продавщицей, официанткой или горничной: у тех зарплата составляла чуть больше пяти долларов в неделю, тогда как в самом дешёвом борделе, где брали доллар за визит, проститутка зарабатывала не меньше 25 долларов в неделю, причём работать приходилось не каждый день: обычно наплыв клиентов отмечался в субботу и воскресенье. В элитных же заведениях заработки были много выше – от 50 до 400 долларов в неделю. Завершив карьеру в таких «клубах», бывшие «девушки» порой открывали собственные заведения.
Кормились с этого бизнеса не только сутенёры и торговцы наркотиками (многие проститутки подсаживались на кокаин и морфий), но и политики. Минна Эверли, чьё чересчур популярное заведение было закрыто в октябре 1911 года по приказу мэра Картера Гаррисона-младшего, утверждала, что в целом квартал «красных фонарей» на 22-й улице Леви выплатил политикам за покровительство более 15 миллионов долларов за десять лет, а лично она с сёстрами – более ста тысяч. Каждую неделю владельцы борделей, игорных домов и подпольных салунов приезжали в назначенный день к Колозимо и платили ему, чтобы их не трогали. Еженедельная дань составляла от 10 до 200 долларов; часть Колозимо оставлял себе, а остальное распределяли между собой олдермены и полиция. Олдермены могли заставить подконтрольные заведения приобретать (по их ценам) виски, провизию, страховые полисы, одежду, а также пользоваться такси. Чтобы увеличить сборы, Коглин и Кенна устраивали Рождественский бал в чикагском Колизее («ежегодную оргию преступного мира», как было написано в одном правительственном докладе), который приносил им каждый раз не меньше 25 тысяч долларов.
В 1910 году Колозимо открыл прославившийся на всю страну «самый лучший итальянский ресторан в Чикаго», где гостям предлагалось поужинать за табльдотом (с шести до девяти вечера) всего за 1,25 доллара (к услугам более состоятельных клиентов было разнообразное меню) и потанцевать под живую музыку. Там можно было встретить миллионеров, оперных певцов, бандерш, местных политиков, а также самого радушного хозяина, который любил шумные компании, обильные застолья и, в отличие от остальных боссов мафии, не скрывал своего богатства, а, напротив, выставлял его напоказ. Теперь Большой Джим командовал крупнейшей в Чикаго бандой рэкетиров, в которую входили итальянцы, евреи, ирландцы и представители других национальностей. Но в 1911 году на него самого наехали вымогатели из «Чёрной руки». Эта преступная ассоциация действовала с начала века в городах, где проживали итальянские общины: в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Новом Орлеане, Детройте, Сан-Франциско, и в основном её жертвами становились именно преуспевшие соотечественники. Им присылали письмо с угрозой физической расправы, требованием выкупа и чёрным оттиском ладони вместо подписи. Получив такое письмо, Колозимо решил обратиться к нью-йоркскому родственнику (а скорее всего, просто земляку). Джон Торрио приехал и всё уладил: когда 22 ноября 1911 года вымогатель Феличе Данелло с братом Стефано и Паскуале Дамико приехали к железнодорожному переезду на Арчер-авеню, близ Кларк-стрит, чтобы забрать дань, их изрешетили пулями. В рапорте капитана чикагской полиции Патрика Хардинга эта троица значилась как «самая отчаянная банда Чёрной руки». Феличе и Паскуале погибли сразу, а Стефано протянул в больнице до 19 декабря. Он вызвал туда Колозимо, намереваясь что-то ему сказать, однако Большой Джим явился в сопровождении полицейских, и Данелло промолчал.
В Чикаго Торрио женился на еврейке из Ковингтона, штат Кентукки, Анне Теодосии Джейкоб, на семь лет его моложе. Жена даже не подозревала тогда, чем он занимается, для неё и общих знакомых он был мистером Фрэнком Лэнгли, бизнесменом. Каковы бы ни были его дела, каждый вечер Торрио ужинал дома с женой, ходил с ней в театр и в оперу. Итальянцы ещё больше уважали его за это: для них семья всегда стояла на первом месте.
С 1914 года Торрио был опорой Колозимо, обеспечивая защиту его бизнеса, и жил теперь на два города. Ему требовались способные помощники, чтобы не беспокоиться за дела в Нью-Йорке. «Кузницей кадров» для «файвпойнтеров» была группа «Младшие сорок разбойников», в которую входил и Аль Капоне. Он выделялся тем, что очень быстро и правильно складывал числа в уме и порой, сдав принесённый мешок с деньгами, помогал ребятам в конторе справиться с подсчётами. Этим он привлёк внимание «папы Джонни». Торрио же стал для Капоне настоящим кумиром: всегда элегантный, учтивый, с внешностью эстрадного конферансье, но при этом умный, проницательный, хороший психолог. Аль понемногу знакомился с другими видами «бизнеса» Торрио, помимо букмекерских контор, и с радостью брался выполнять его поручения, которые с каждым разом становились всё ответственнее. От сбора ставок и передачи сообщений, за что Торрио неплохо платил, он перешёл к сбору дани с борделей (при этом можно было попользоваться услугами тамошних девочек), баров и лавок, даже перевозил оружие – в коричневых бумажных пакетах. Насилие – самый крайний способ убеждения, ведь под небом места хватит всем, учил его Торрио, который вообще был сторонником мирного решения проблем. Аль подолгу отрабатывал перед зеркалом суровый взгляд, который действовал на неплательщиков не хуже дула пистолета. Если же не действовал – у него были железные кулаки. При этом он всё ещё работал в типографии и каждый вечер должен был являться домой не позже половины одиннадцатого.
Среди криминальной молодёжи встречалось много талантов, например Лаки Лучано. При рождении он получил имя Сальваторе Лучана; его родители приехали в Нью-Йорк с Сицилии в 1907 году, когда их сыну, ставшему в Америке Чарлзом, было десять лет. Прозвище Лаки (Счастливчик) он получил, потому что выжил после неоднократных избиений до полусмерти в Нижнем Ист-Сайде. В 14 лет он бросил школу, несколько раз был арестован, а к 1916 году, когда ему шёл девятнадцатый год, зарабатывал тем, что защищал своих друзей-евреев от ирландцев и итальянцев, взимая с них за это по пять – десять центов в неделю. Возможно, именно тогда он и его приятель Мейер Ланский познакомились с Алем Капоне. Однако истинным наставником Аля – и непосредственным начальником в отсутствие Лиса – стал Фрэнки Йель. Разница в возрасте между ним и Алем составляла всего шесть лет.
Настоящее имя Фрэнки было Франческо Иоэле, но американцам такого в жизни не выговорить. Родители привезли Франческо в США в 1900-м, когда ему было семь лет. Новое написание фамилии, совпадавшее с названием знаменитого университета, всех позабавило. Кстати, эту идею подал Джон Торрио, под крыло которого прибился Фрэнк. Работу же ему поручали совсем не интеллектуальную.
В 1910 году семнадцатилетний Фрэнки и его друг Бобби Нельсон, занимавшийся борьбой, сильно избили несколько человек в бильярдной на Кони-Айленде; Йеля оштрафовали на 70 долларов за нарушение общественного порядка. Через два года его арестовали по подозрению в убийстве, но отпустили. Фрэнки тогда принимал заказы на убийства, его гонорар доходил до десяти тысяч долларов, но это было невозможно доказать. Год спустя очередная драка на год привела его в тюрьму. В 1916-м против него выдвинули обвинения в грабеже и краже, но опять ничего не смогли доказать. Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице в криминальной среде, Йель начал крышевать доставку льда в Бруклине (холодильников тогда не было), а накопив денег, купил в 1917 году двухэтажное здание на Кони-Айленде, на Сисайд-уолк, между Бауэри и Пляжем, и открыл там бар, назвав его «Гарвард Инн»[6]. Тонкий юмор: Йель – Гарвард. Аль Капоне работал там вышибалой, барменом, а также выполнял разнообразные поручения Фрэнки. Теперь и у него завелись деньги на добротные костюмы, дансинги, бега и прочие развлечения, хотя зарплатный чек он каждую неделю приносил матери. Она не задавала лишних вопросов.
Самая ранняя фотография, на которой запечатлён Аль, относится как раз к этому периоду: он, в костюме и при галстуке, выглядящий гораздо старше своих восемнадцати лет, сидит рядом с отцом, одетым по-летнему, у витрины бильярдной напротив их дома; рядом стоит родственник из Италии Винченцо Райола. В витрине отражается окно дома Капоне, в которое выглядывает Тереза, держа на руках младенца. Это сын Ральфа – Ральф Габриэль, родившийся 17 апреля 1917 года.
В семейной жизни итальянские иммигранты строго следовали традициям: дети почитали и беспрекословно слушались мать, муж оберегал честь своей жены; жена подчинялась мужу, её мир ограничивался кухней, детской и церковью. Девушки из «Маленькой Италии» стремились поскорее выйти замуж – за своих, итальянцев – и не представляли себе иного существования, чем у их родителей. Флоренс же успела стать «американкой»: ей нравилось ходить по барам и дансингам, она собиралась, пока молода, как следует насладиться жизнью, вместо того чтобы превратиться в наседку. Мужу она могла дать отпор и на словах, и на кулаках, так что порой оба ходили в синяках. Так продолжалось почти два года, а вскоре после рождения Ральфи Флоренс сбежала, бросив и мужа, и сына. (Развод будет оформлен только пять лет спустя.) Заботу о младенце приняла на себя бабушка Тереза (растившая пятилетнюю дочь и ещё двух сыновей-подростков), а Ральф в поисках заработка хватался за любую работу: обслуживал клиентов в типографии, ходил по домам, продавая грошовые страховые полисы, наконец, устроился на фабрику, где разливали безалкогольные напитки, и к нему прицепилась кличка Боттлз – Бутылки. Теперь, когда его семья распалась, он переселился на Манхэттен, чтобы больше не отчитываться перед матерью, где он был и с кем. Ночи он проводил с проститутками и девушками из дансингов, а также с дружками из «файвпойнтеров», которые угоняли автомобили и продавали их целиком или на запчасти. Ральф был у них на подхвате и не гнушался ничем в погоне за лёгкими деньгами. Опорой семьи стал Аль.
Кони-Айленд
Фрэнки Йель сильно отличался от Джона Торрио. Вместо строгих деловых костюмов он носил яркие пиджаки, дорогие украшения и фетровые шляпы-федоры; один репортёр как-то назвал Фрэнки «бруклинским Красавчиком Браммеллом[7]», то есть законодателем мод. Алю нравился этот стиль. В зубах у Фрэнки была зажата толстая вонючая сигара – у него была собственная марка сигар, и на упаковке красовалась его улыбающаяся физиономия. Но главное – Фрэнки не стремился решать дело миром, ведь гораздо быстрее уладить все проблемы кулаком или пистолетом. Он был способен на добрые поступки, например помогал землякам-итальянцам, подкидывая самым бедным еды, угля или деньжат. Однажды он возместил ущерб владельцу ресторанчика, которого ограбили; когда один торговец рыбой потерял свою тележку, дал ему 200 долларов и посоветовал: «Купи себе лошадь, стар ты уже пешком ходить». Но в гневе он был страшен: один раз так отлупил своего младшего брата Анджело, который чем-то его рассердил, что тот попал в больницу. А когда два вымогателя прицепились к гардеробщику из ресторана по соседству, Фрэнки избил их до полусмерти.
В жизни, которую вёл Фрэнки, а теперь и Аль, было трудно предсказать, что произойдёт в следующую минуту. Однажды в «Гарварде», в 1917 году, Аль, желая сделать комплимент официантке – молодой итальянской девушке, – сказал, что у нее красивая попка; её брат, бывший тут же, воспринял это как оскорбление, разбил бутылку о край стола и этой «розочкой» полоснул Аля по левой щеке. (По другим версиям, он выхватил нож; но знатоки утверждают, что тройную рану можно было нанести только «розочкой», а ударить три раза ножом Аля, который был в полтора раза крупнее, нападавший не смог бы.) Братом оказался «файвпойнтер» Фрэнк Галуччо, поэтому Аль принёс ему свои извинения и (по совету старших товарищей) не стал требовать никакого возмещения ущерба. Шрам останется на всю жизнь, став особой приметой Аля Капоне.
Вскоре после открытия «Гарварда» Фрэнки Йель женился на Марии Делапия, которая со временем родит ему дочерей Розу и Изабеллу. Аль тоже встретил девушку своей мечты, совершенно не похожую на тех, с кем он общался раньше[8].
Табельщицей в картонажном цехе работала ирландка Мэри Джозефина Коглин, которую близкие звали Мэй, – зеленоглазая, светлокожая шатенка с заливистым мелодичным смехом. У неё был неправильный прикус с выступающими вперёд верхними зубами, что придавало ей забавное выражение, особенно когда она улыбалась. Мэй родилась 11 апреля 1897 года и была второй из пяти дочерей: старшая, Мюриел Энн, стала её лучшей подругой, младшие – Вероника, Клэр и Агнес – тоже были очень дружны. Сразу после Мэй родился Уолтер, а самым младшим в семье был Дэнни. В 16 лет Мэй лишилась отца, Майкла Коглина, работавшего конторским служащим на железной дороге: он скоропостижно скончался от сердечного приступа, однако оставил после себя достаточно денег, чтобы вдове, Бриджет Горман Коглин, не было необходимости работать; правда, этим пришлось заниматься старшим детям. (Бриджет, приехавшую в Нью-Йорк с родителями из Ирландии, миновала доля служанки: вылетев из родного гнезда, она сразу вышла замуж и занялась обустройством собственного дома.) К шестнадцати годам обязательное образование завершалось, поэтому Мэй устроилась в картонажный цех на «чистую» работу и приносила домой неплохие деньги – около тысячи долларов в год. Сёстры Коглин получили хорошее воспитание: музицировали, читали, обладали хорошим вкусом и умели элегантно одеваться в условиях небольшого бюджета. Мэй была весёлая, жизнерадостная, умная, ценила хороший юмор и любила танцевать. В общем, понятно, почему восемнадцатилетний Аль в неё влюбился; но почему двадцатилетняя Мэй ответила ему взаимностью?
Ирландцы обычно женились на соотечественницах, как и итальянцы, но в отличие от них, рано обзаводившихся семьёй, с этим не спешили, считая, что прежде нужно как следует встать на ноги. Если девушки уставали ждать, они выходили замуж за англосаксов или за немцев, но уж никак не за нищих малограмотных итальянцев, от которых разило чесноком. Мэй насмотрелась на них на работе. Однако Аль резко выделялся среди своих земляков. И не только ростом, хотя для молодой жизнелюбки высокая мускулистая фигура тоже имела значение. Торрио как воспитатель успел достаточно много: Аль, наделённый природным обаянием, знал, как вести себя с женщинами, следил за гигиеной – после душа посыпался тальком, чтобы перебить запах пота, одевался хоть и ярко, отдавая предпочтение жёлтому и светло-зелёному цветам, но не аляповато, изящно двигался и хорошо танцевал. Кроме того, Мэй смогла разглядеть в нём роднившие их черты: ум, целеустремлённость, желание добиться в жизни чего-то большего. Даже шрам на щеке не портил его в её глазах: в конце концов, синяки и шрамы – украшение мужчины. А его серо-зелёные глаза под чёрными дугами бровей казались неотразимыми не только ей. Жизнь «бунтарей» во все времена была окутана романтическим флёром, и в отношениях «девушки и хулигана» была своя прелесть. Возможно, Мэй инстинктивно тянуло к Алю – есть вещи, которых не объяснить рационально. Во всяком случае сопротивлялась она недолго, и к лету 1918 года выяснилось, что она беременна.
Как честный человек Аль был готов жениться, но мать Мэй восстала против этого. Вот ещё – породниться с итальянской голытьбой! И потом, первая беременность может завершиться чем угодно; будет просто глупо связывать свою жизнь с отцом неродившегося или мертворождённого ребёнка. Пусть сначала дитя появится на свет, а там посмотрим.
В Ирландии согрешившую девушку услали бы куда-нибудь в глушь до родов, а ребёнка потом отдали в приёмную семью. Но здесь не Ирландия, и Мэй безапелляционно заявила, что этого не будет. Она по-прежнему жила в родном доме в Бруклине (Площадь 3, дом 117), а Аль – со своей семьёй, надеясь, что миссис Коглин изменит своё решение.
И Мэй, и Аль воспитывались в почтении к старшим, поэтому вели себя, как застенчивые подростки: встречались у Мэй, когда миссис Коглин не было дома, но не наедине – сёстры и Дэнни были в восторге от приятеля Мэй, расширившего рамки их привычного мирка. Уолтер тоже держался дружески, хотя и норовил уйти куда-нибудь по делам. Домашние посиделки проходили под музыку, а у Аля обнаружился красивый голос – как-никак итальянец. Но миссис Коглин, догадываясь, с кем связалась её дочь, боялась этого Капоне, хотя и не подавала виду. Поэтому, когда она скрепя сердце всё же смирилась с его визитами в свой дом, она держала себя сдержанно и учтиво, стараясь его не рассердить, – это могло кончиться бог знает чем.
В апреле 1917 года США вступили в Первую мировую войну, а в мае начал действовать закон о призыве на воинскую службу. Пуэрториканцам предоставили американское гражданство, чтобы они могли записываться в армию. Первый призыв, объявленный 5 июня, распространялся на всех мужчин в возрасте 21–30 лет. Таким образом удалось набрать в армию четыре миллиона человек. Летом следующего года два миллиона солдат отправились во Францию, и половина сразу попала на передовую. С этого момента подкрепления прибывали по десять тысяч человек в день; чтобы поддерживать такой ритм, 5 июня 1918 года прошла вторая волна призыва, распространявшаяся на мужчин, которым исполнился 21 год за последние двенадцать месяцев, а 24 августа третья – для тех, у кого призывной возраст наступил после 5 июня 1918-го. В сентябре 1918 года Аль зарегистрировался как призывник, хотя ему было только 19 полных лет. На его счастье, война скоро закончилась – 11 ноября.
Кстати, Монк Истман сражался в окопах Первой мировой, снискал себе славу и вернулся в Нью-Йорк героем. Он был не единственным гангстером, поставившим свои боевые навыки на службу отечеству. Впрочем, когда солдаты-победители стали возвращаться на родину, начался обратный процесс: юноши, научившиеся стрелять на войне, пополняли ряды бандитов. А криминальное прошлое нельзя было сдать в архив: Истмана пристрелят в 1920 году среди бела дня, прямо на тротуаре…
Когда признаки беременности Мэй стали очевидны, она ушла с работы. Аль, хотя официально и не был её мужем, теперь вносил свою лепту в семейный бюджет Коглинов. Это несколько смягчило непреклонную мать. Возможно, из него выйдет не такой уж плохой зять… Словно стараясь помочь своим родителям соединиться, маленький Альберт Фрэнсис Капоне появился на свет за два месяца до срока – 4 декабря 1918 года. (Его свидетельство о рождении составлено с ошибками: отцом значится Альберт Габриэль Капоне, а не Альфонс Габриэль, даты рождения отца и матери тоже указаны неверно.) Худенькая Мэй тяжело перенесла роды, да и младенец оказался слабеньким и болезненным. Поэтому венчание состоялось почти месяц спустя – 30 декабря, на территории невесты – в церкви Пресвятой Девы Марии Морской Звезды, прихожанами которой были одни ирландцы. Все присутствовавшие чувствовали себя неловко, и после совершения обряда Коглины попросту вернулись домой, и не подумав пригласить новую родню отметить это событие. Крещение Альберта, которого в семье прозвали Сонни (Сынок)[9], состоялось в той же церкви и тоже без всяких торжеств: крестины детей, зачатых вне брака, католики никогда не праздновали – не помещали объявлений в газетах и не приглашали гостей.