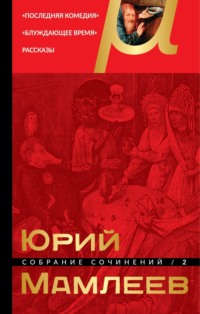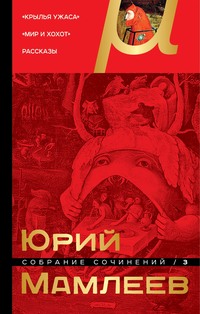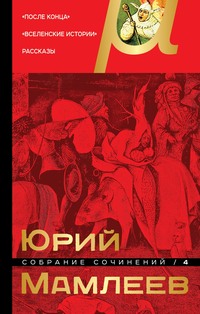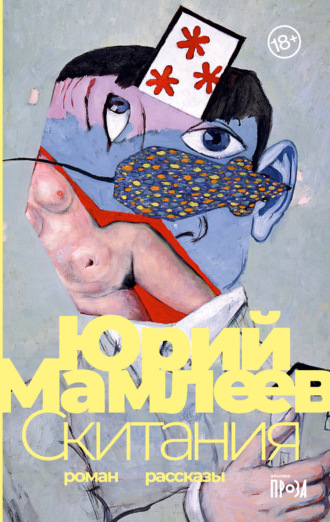
Полная версия
Скитания
– А мы с Генрихом, слава богу, скоро потеряем эту мерзкую конуру, – сказала Любочка. – Толстовский фонд обещал помочь снять квартиру, если я устроюсь на работу.
– Ну почему же она такая уж мерзкая? – удивилась Лена. – По-моему, мило, уютно.
– Да отель мерзкий; в номере ещё ничего, жить можно. Это ведь отель для бедных. Точнее, пристанище для них, – произнёс Генрих.
– Ну хватит, Генрих, не напускай мраку, – вставила Любочка. – Выпьем за жизнь!
– За жизнь! – подхватили все.
– А как Миша Замарин? – вдруг с какой-то тоской воскликнул Андрей. – Господи, как я мог забыть о нём!
– Ну, знаешь, этот хоть и художник, но к нашей компании не относится, – ответил Генрих. – Вообще, вот уж странный мужик. Ещё в Москве был такой. Он уже год здесь, и знаешь, вот кто уж действительно изменился тут, так это он: ещё более кошмарный стал. Одичал. С семьёй недавно разошёлся. Ира с ребёнком живёт отдельно. Работает в библиотеке. А он… Чёрт его знает, что он делает.
– Да, мы слышали, что у них произошёл разрыв. Ну и ну. А ведь там были не разлей вода… Я ведь знала Иру немного, – задумчиво произнесла Лена.
– Ничего, мы здесь пробьёмся. Увидим мир. И всё будет в порядке! – скрепил Андрей. Остальные поддержали.
Разошлись уже поздно ночью.
4Следующие дни прошли для Андрея и Лены как в тихой лихорадке, прерываемой неожиданными и выводящими за предел существования впечатлениями. Было тревожно, иногда страшно за будущее, а потом страх прятался и ликовала, как младенческое небо, надежда. Всё – от еды до диких кафе с гомосексуалистами – удивляло и озадачивало. Хотя теоретически они многое знали, но на самом деле даже то, что знали, было другое.
Заглянув – между делом – в Толстовский фонд, Андрей обрадовался, когда ему вручили письмо от довольно известного американского слависта. Выйдя на авеню – скамеек почему-то нигде не было, – Андрей прислонился к красной стене дома и прочёл:
Дорогой господин Кругов!
Отвечаю Вам на адрес Толстовского фонда, который Вы указали в своём письме из Вены. Надеюсь, что Вы уже в Нью-Йорке.
Всё, что я слышал о Вашем творчестве, несомненно, интересно. Хотя у меня сложилось впечатление, что оно довольно элитарно. Но воспоминания о самиздатском подполье в СССР наверняка привлекут внимание американских издателей – советую Вам начать с этого, тогда будет легче опубликовать Ваши рассказы и эссе. Без политики в Америке не выжить.
А теперь о работе. В США, как Вы знаете, практически нет социального страхования. Уровень преступности чрезвычайно высок, постоянно имеют место социальные конфликты, особенно в крупных городах. Безработица растёт, найти работу очень и очень непросто.
Вы как филолог и писатель можете искать места в университете. Но судите сами: у нас недавно на освободившееся место было подано более двухсот заявлений и половина из них – от безработных профессоров. Но у Вас есть шанс устроиться в качестве native speaker (носителя языка), потому что Вы гражданин СССР и являетесь носителем русской культуры. И если Вам удастся устроиться в подобном месте (на что я искренне надеюсь), то советую работать спокойно, тихо, ни под каким видом не критикуя никого и ничего. В противном случае Вы сразу лишитесь места.
Помните, у нас свобода, в том числе и свобода умереть. Официально Вы имеете, конечно, право высказывать любое мнение, но всегда учитывайте, что далеко не всем это нравится, особенно это касается высоких инстанций. Вы, возможно, вновь усомнитесь в моих словах, но я могу привести Вам массу примеров историй весьма и весьма печальных.
Высылаю список лиц и издательств, куда Вы могли бы обратиться. Надеюсь, что моя искренность пойдёт Вам на пользу.
С уважением,Профессор ДЖ.Письмом этим Андрей в целом остался недоволен – оно оставило какой-то неприятный осадок в душе. «Чёрт возьми, не успели приехать, а уже пугают. Ну, хоть список пригодится», – подумал он, пряча письмо в карман.
Маленький негритёнок оглушил его своим криком. Все спешили, бежали – в магазины, в кафе, в порнографические кинотеатры, неизвестно куда. Реклама ревела: «Наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся!» Но не предлагала ничего, кроме сигарет. Впрочем, по пути ему всё время совали в руки какие-то маленькие бумажки с приглашениями за умеренную плату отдохнуть в объятиях неких дам, силуэты которых виднелись на билетиках…
Клубок дней для Андрея с Леной путался и мелькал, как огни реклам, разожжённых воем сирен. Встречи в эмигрантских офисах (по поводу трудоустройства), бесконечные анкеты, вопросы, списки… Сталкиваясь с обычными эмигрантами, Андрей видел, что и простую работу надо искать так же напористо, выдерживая конкуренцию, как будто речь шла о вакансии в Академии наук.
Удивил его и Павел. Он встретился со своим когда-то беспечным московским другом в полупустынном и пыльном пивном баре. Втроём – включая Лену – они сидели за стойкой, и только они, кажется, во всём баре разговаривали, остальные молчали, каждый за своим пивом.
Павел похудел, загорел и выглядел – в отличие от Генриха и Игоря – уже не по-московски, хотя и торчал здесь, в Америке, не дольше, чем они.
– С поэзией надо завязывать, – сказал он Андрею. – Хорошо, что ты в Москве писал не только стихи, но и прозу. Тебе легче будет. Но я всё-таки пробью свою книгу стихов в «Ардис» – есть такое маленькое американское издательство для русских.
– Что это за мир, из которого ушла поэзия? – удивилась Лена. – Ушло священнодействие…
– А здесь даже русские не читают стихов. Даже они здесь меняются, – холодно заметил Павел, заказав ещё три стопки виски. – Но жить здесь можно. Не только русские живут на свете. Мне в чём-то даже нравится. Всё оголено, как на скотобойне. Если умеешь – сам пей кровь, если дурак – из тебя будут пить…
Андрей огляделся.
– Да, только по внешнему «рисунку» здесь всё сложно. Но принципы здешней жизни очень просты, с этим я согласен. Я уже сам достаточно повертелся среди американцев, язык сходу схватил, да и раньше знал немного… Но ведь есть разные люди и разные слои…
– Андрей, вот ты идеалист до мозга костей, веришь чёрт знает во что, даже в дружбу. Но дружба здесь, оказывается, тоже меняется. От друзей-эмигрантов жди только гадостей. Борются кто за жизнь, кто за славу. Даже Генрих уже успел подложить мне свинью. Хотя и я ему тоже, по правде говоря. Но манифест мы составим.
После этого разговора был другой, очень милый, в американском ПЕН-клубе (помогли и рекомендательные письма из Вены). Его генеральный секретарь, датчанка Кэтрин, встретила Андрея с улыбкой и готовностью помочь. До самого президента было не добраться, но Кэтрин сама состряпала письмо в Толстовский фонд, дала адрес старой переводчицы, познакомила, свела… И пригласила на вечер в доме ПЕН-клуба.
Это было вечером, и Андрей с Леной, ободрённые и весёлые, возвратились в отель, в свою комнату. Даже тараканов стало как будто поменьше. Включили старенький телевизор. Пахнуло фильмом ужасов: на экране из стоящих в ряд гробов медленно и страшно поднимали головы мертвецы. Как ни странно, было это здорово сделано, очень живо и даже с какой-то любовью, точнее, со знанием трупов. Во всяком случае, трупной жизни. Но среди ночи – чёрно-небоскрёбной нью-йоркской ночи – Андрею вдруг стало плохо: сильная боль в сердце. «Опасность инфаркта», – ужаснулась Лена. Собрав воедино все свои знания английского, она позвонила по внутреннему телефону – в отеле был врач.
– Пятьдесят долларов, – протрубил в трубку врач.
Она не поняла.
– Что?
– За мои услуги вы должны заплатить мне пятьдесят долларов.
– У нас… У нас нет сейчас таких денег, – голос Лены дрогнул. – Но потом наш фонд всё оплатит.
– Нет, вы должны заплатить немедленно.
– Но это же сердце, это опасно… Мой муж может умереть.
– Меня это не касается.
– Что?!
– Утром идите в больницу для бедняков и эмигрантов. Адрес – Рузвельт-авеню, три.
– Но ведь ему плохо…
Врач повесил трубку.
Они не спали всю ночь. Наутро Лена отвела Андрея в указанное учреждение. Они шли пешком. В больнице была очень длинная процедура и океан народу. Почему-то всё чаще и чаще привозили раненых. Лена дрожала и ни о чём не могла думать.
Когда всё, наконец, прояснилось, оказалось, что дело было не в сердце, а в грудной мышце – и это вызывало боль, похожую на сердечную. Ничего опасного. Нужно было жить и бороться.
Но уже что-то изменилось в душе Лены. Она не могла забыть ночного врача. Андрей отнёсся к этому проще.
– Главное, что я здоров, – сказал он ей потом. – Значит, судьба за меня. А против судьбы не попрёт даже американская медицина. Не плачь и забудь.
И они опять бросились – на улицы, в вихрь, в дождь людей, в сумасшедшие огни, навстречу этой новой жизни. Негритянка – уборщица из отеля – по-доброму улыбалась им и что-то лепетала на своём сленге.
5Манифест «Независимых» был готов. Последнее заседание прошло у Павла, все точки над «i» были расставлены, союз советских сюрреалистов объявил о своём существовании Нью-Йорку. Перевод шёл быстро, адрес – через связи Павла – был в кармане. Начались первые встречи с людьми из американских издательств. Например, Андрей и Лена познакомились с дочерью старых эмигрантов, которая была переводчицей и отлично говорила по-русски.
Наконец вечером Андрею и Лене удалось дозвониться до Михаила Замарина. Миша был единственным из числа их друзей в Нью-Йорке, которого они ещё не видели. Их и всего-то было пять (считая Любу). Больше никого из эмигрантов во всей Америке Андрей не знал.
Разговор начала Лена. И она тут же рассказала о случае с врачом.
– Ради бога, Миша, – говорила она торопливо, – объясни. Ты здесь уже больше года. Почему, почему он так сделал? У него что, мало денег?
– Денег у него достаточно. Издать все книги ваших «независимых» – для него раз плюнуть, – сухо ответил Миша. Голос его был очень дальний. – И он поступил с вами совершенно нормально. Ты вела себя некорректно, умоляя его прийти, после того как уже получила отказ… Да не кричи, а выслушай меня, пожалуйста. Он не пришёл из принципа, потому что деньги здесь – божество. Если бы даже на месте Андрея была его собственная мать, он всё равно потребовал бы платы и не пришёл бы, если бы мать не заплатила. Божество, как известно, выше родственных связей… И глупо на него негодовать, он сделал то же, что сделал бы каждый врач.
– Ты что, уже сошёл с ума за этот год? – рассвирепела Лена.
– Не веришь, сама узнаешь.
Трубку взял Андрей.
– Миша, а как твои картины? Идут?
– Понемногу. Но я не жалуюсь. Ведь ты знаешь, не живопись для меня главное.
– А с главным как?
– О, об этом не по телефону.
– И с Ирой ты разошёлся, вот…
– Ну что ж, это судьба. Здесь, кстати, многие расходятся. Потому что каждый по-разному реагирует на Нью-Йорк.
– Наоборот, надо сплотиться.
– Вот Ира и сплотилась. Нашла себе американца. Ребёнку будет лучше, да и мне тоже.
– Ну, с тобой невозможно говорить. Когда увидимся?
– Завтра вечером я уезжаю. До того света ещё увидимся. Обними Лену. И пусть не вешает носа. Путь привыкает. Я дней через десять вернусь. Пока.
После такого телефонного разговора на следующий день Лена и Андрей прибыли в Толстовский фонд для «серьёзного разговора». Но письмо из американского ПЕН-клуба, видимо, подействовало, и ничего особенно серьёзного не было: сотрудник заявил, что готов терпеть обузу.
– Обычно, – объяснил он, – два-три месяца, и мы прекращаем оказывать помощь – за это время человек должен найти хоть какую-то работу. Если кто не владеет английским языком, не беда – чтобы таскать ящики и грузить кирпичи, не надо никакого языка, даже ангельского. И такую работу найти нелегко, но можно. Но ваш случай особый. Считайте себя счастливчиками. Может быть, даже полгода потерпим. Но больше восьми месяцев – ни-ни. Ищите везде, где можно, идите в университет, в колледж, в школу – куда угодно, и скорее, скорее, скорее. Не теряйте ни минуты. Вопрос если не смерти, то жизни. Учитесь понимать западную жизнь. Ни минуты даром.
А через несколько часов они уже были на вечере в ПЕН-клубе. Были там и Генрих, и Игорь. Увы, в чём-то Павел был прав. Андрей почувствовал, что, несмотря на всю многолетнюю и проверенную дружбу в Москве, здесь они смотрели на него как на конкурента. Хотя и сотрудничающего в общем союзе, но когда отдельно – то конкурент. И Лену поразили, мягко говоря, недовольные взгляды Любы.
Дом был фешенебельным, залы – тоже. На потолках – ангелы. Внизу, на полу, – люди. Некоторые – самодовольные, другие – нет.
– How are you?
– How are you?
– How are you?
Милая Кэтрин указала Андрею на нескольких знаменитостей. Но Андрей привязался к одному ирландцу, переводчику (он свободно говорил по-русски), поэту и бывшему другу Сэмюэла Беккета. Он – единственный среди зала – был пьян и продолжал пить. Назначили встречу. Даже Лена была недовольна.
– Ну что ты к нему привязался? – строго шепнула она Андрею. – Здесь есть люди поинтересней. Смотри, Любка с Генрихом так от этого знаменитого и не отстают…
– А личико-то у него, у знаменитого… – заметил Андрей. – У крота и то подуховней.
– Да бог с ними, с его личиком и с ним. Нам же нельзя погибнуть.
Андрей подошёл к знаменитому:
– How are you?
Под конец вечер принял какие-то строгие черты. Знаменитости уехали. Кэтрин – её всегда окружали милые люди – простилась с Андреем. И даже поцеловала его. Поэт-ирландец говорил о Джойсе с Любочкой и Леной.
К Андрею подошёл слегка подвыпивший субъект и представился: журналист. Он внимательно просверлил Андрея глазами и проговорил:
– Вы русский?
– Да.
– Я вам скажу кое-что. Вы понимаете меня?
– Да, да, я в Москве всю жизнь учил английский.
– Если вы сможете выжить в Нью-Йорке, вы сможете выжить в любой точке земного шара.
И журналист захохотал.
– И может быть, не только земного, – добавил он. – Серьёзно говорю. Это джунгли, и я люблю такую жизнь. И запомните: это будущее всего человечества. Вы попали в XXI век, даже в XXII. Гордитесь.
– Горжусь.
6Замарин вышел из своей однокомнатной квартирки в Вудсайде. На противоположном берегу Гудзона рос, как призрак, Манхэттен. А Вудсайд умилял своими низенькими трёх-четырёхэтажными кирпичными домиками – их было море, которое уходило далеко за Вудсайд, в другие регионы. И это был реальный, карикатурно-убогий Нью-Йорк, в котором и жило большинство населения города.
Миша сел в автобус. Через несколько остановок сошёл. Рядом было кладбище – широкое, как каменное море. Сначала он просто решил прогуляться. Сегодня ночью – эта дурацкая поездка в Бостон по делу. Был ещё яркий день, и солнце палило. Узкие дома-скалы Манхэттена по-прежнему громоздились на той стороне. На кладбище было две-три скамейки, и Миша присел на одной из них. В руках его был портфель, в нём книга и альбом для рисования. Небрежный пиджачок придавал ему какой-то похмельный вид, хотя он не пил вина. Был он среднего росту, и лохматая большая русая голова его с чуть неподвижными глазами производила впечатление далёкое от мира сего, но уверенное.
Кладбище почему-то напоминало ему Манхэттен, только маленький, приземистый, ибо надмогильные каменные сооружения были громоздки, широки, устойчивы, точно каменные коробки, и разбросаны мириадами по всему пространству огромного кладбища. Это был могильный каменный город – без кустов, почти без зелени, если не считать нескольких деревьев, без отдельных крестов (кресты, когда попадались, были врисованы в каменные надгробия). И только бесчисленные имена… На самом кладбище – ни души. Только вой машин издалека.
Так и просидел Миша с полчасика на скамейке в могильном «Манхэттене», посматривая на другой, реальный, из тумана которого вырастали каменные живые громады. Потом вынул из портфеля альбом и начал быстро рисовать, делать наброски. Книгу на английском не тронул – в неё и заглядывать было страшно, а купить – почти невозможно. Она почти не продавалась. Около скамейки его села птица – чёрненькая. Рисовал он легко, уверенно, и выходило что-то реально-скрытое: тот же Манхэттен, но уже на другом уровне сознания. Он почти забылся, ушёл внутрь и не заметил, как на скамейку присела огромная, старая, рыхлая женщина лет пятидесяти, с сумкой в руке. Волосы её были раскиданы, из рваной сумки торчала бутылка вина.
– How are you? – наконец спросила она его.
Замарин посмотрел на неё.
– Thank you. I am all right, – ответил он. И продолжил рисовать.
Женщина уставилась на Манхэттен. Она не была пьяна, но глаза её были так землисты (словно заброшены землёй), наверное, землистей, чем у тех, рядом с которыми они сидели.
Потом она запела.
Замарин не обращал внимания: рисовал и рисовал. А когда кончил, резко встал, бросил альбом в портфель и направился к выходу с кладбища. Женщина пошла за ним. Она уже не пела, а просто бормотала – то громко, то тихо, как бы про себя.
Миша пересёк грязную улицу с почти наезжающими друг на друга машинами, обогнул лежащего на земле старика и зашёл в первый попавшийся бар на углу. У стойки в полутьме бара неподвижно сидели трое мужчин – в отдалении друг от друга. Замарин присел у окна, у маленького столика, взяв бифштекс, пиво и салат. Из окна он увидел, что женщина тоже пересекает улицу. Отпив пива, вынул книгу из портфеля и стал читать, открыв её посередине. В это время в бар медленно вошла та женщина. Она видела, что Миша вошёл туда. Посмотрев на него, она тихо села напротив.
– Кофе, – как бы молча сказала она.
Бармен, не удивлённый, бросил на неё жидкий взгляд.
Женщина не пила, а смотрела, больше на Мишу. Тот, взглянув на неё раз-другой, углубился в чтение. Иногда лицо его светлело. Забегала жёлтая длинная собака. Так прошёл один час.
Наконец Замарин встал, подошёл к женщине и сказал ей, чуть улыбаясь:
– Ну, до свиданья, мой последний, единственный друг.
Но женщина не поняла его, хотя его английский был вполне ясен. Она остановила на нём свой землистый взгляд, в котором как будто что-то давно погасло, и чуть-чуть удивилась.
– How are you? – спросила она.
– О’кей, – ответил Замарин. И вышел из бара.
7Неожиданно у Андрея дела сдвинулись, улучшились. В течение двух-трёх недель он побывал в нескольких важных местах: в редакциях русских эмигрантских газет, журналов, в американских издательствах и университетах. В крупнейшей эмигрантской газете ему сразу предложили сотрудничество – писать статьи о положении диссидентов. Он уже давно решил вместе с Леной: всё что угодно, но только не политика, не вовлечение в эти игры. Но объявить об этом открыто – значило бы создать себе репутацию сомнительного, странного человека (в лучшем случае): в большинстве все наперебой стремились именно к политике, за редчайшими исключениями. Поэтому была выработана тишайшая тактика: сбить с толку, писать как ни в чём не бывало только об искусстве и литературе, критикуя главным образом догматизм и сталинизм в культурной политике, и в любой критике не противоречить собственной совести.
Возможны были и другие «приёмы». Но, кроме газеты, существовали и литературные журналы. Один из них, самый старейший, самый уважаемый – в нём в своё время публиковались Бунин и Ремизов – и который досконально изучался славистами всего мира, дал согласие на публикацию рассказов Андрея. Это произошло не без помощи профессора из Йельского университета, ставшего поклонником Кругова. Редактор журнала не жаловал всё новейшее, но сдался и решился даже на публикацию стихов Павла и Игоря.
Встреча с ним – уехавшим из России с Белой армией – оставила у Лены и Андрея двоякое впечатление: с одной стороны, живой памятник истории, человек, знавший всех знаменитостей – от Есенина и Маяковского до Шаляпина и Рахманинова, а с другой – была в нём какая-то странная застывшесть, как будто он просто перешёл из одного века в другой – и замер. Было в нём много злости, но мало жизни. Изумляли его одновременная искренность и окаменелость. Он был хранитель, но не больше. Профессор из Йеля был поживее.
…Понемногу утихал ужас перед сумасшедшими на улицах, в карманах всегда были наготове бумажки по доллару, чтобы отдать в случае нападения, соблюдались и другие предупреждения. Вой сирен, пар из-под земли меньше ассоциировались с адом. Поездки в метро по-прежнему были, однако, довольно мучительными.
Почему-то люди в вагонах метро избегали смотреть друг другу в глаза, они вообще не замечали друг друга.
«О чём они думают?» – спрашивала себя Лена.
А дни мелькали, как встречи. Манифест «Независимых» был разослан в сто пятьдесят организаций. Изучался английский, читались собственные статьи, светила надежда.
– Но где она, американская жизнерадостность? – говорила Лена. – Вот что меня удивляет.
– О, видела бы ты, как они хохочут в офисах! – отвечала, улыбаясь, Люба. – Правда, не всегда.
– А ты зато не видела нашего священника-хохотуна из самолёта, – парировала Лена.
– Здесь можно жить, – вмешался Андрей. – Какой огромный мир! Надо его понять и узнать до конца.
Иногда возникающее, внезапное ощущение какой-то дикой свободы овладевало им. Он стоял в центре Нью-Йорка, между небоскрёбами и монотонно-обезумевшими рекламами, вглядываясь в толпу и поражаясь животности её.
«Вот каждый из них сам по себе, – думал он. – Как волк. Один волк в машине, в золотых часах. Другой – чёрен от грязи. И никому до тебя нет никакого дела. Ты один. Делай что хочешь. Закон запрещает только то, что уже невозможно не запрещать. Но и это можно обходить, при удаче. Иди и прогрызай себе путь сквозь живую стену. Ты один в целом мире. Как в первобытных джунглях. И только один вопль с экранов ТВ, с реклам, один призыв: наслаждайся, наслаждайся, наслаждайся! Где-то это отвечает каким-то забытым инстинктам в человеке».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.