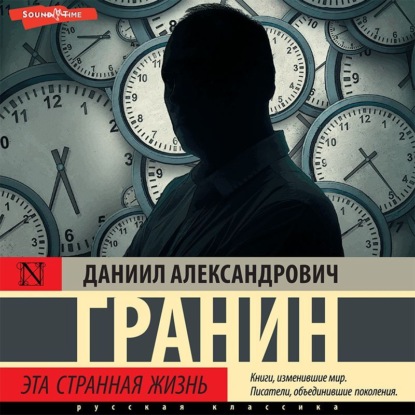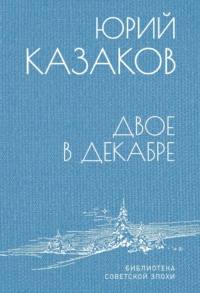Полная версия
Долгие крики
В сенях что-то стукнуло, покатилось, загремело; послышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.
– На избу полезла, стерва, – злобно шептал странник. – И лестницу затащила… Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!
Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.
5Разбудил его утром петух – кричал заливисто под окном.
Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи – все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.
Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то… – догадался Иоанн. – Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».
Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.
– Ну, спаси Христос, – сурово сказал он. – Спаси тебя Бог и помилуй… А я помолюсь за всех за вас!
– У, кобель красноглазый! – быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.
Странник надел шапку и вышел на крыльцо.
Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее – дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь – сутки прочь!» – радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.
Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.
Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.
Дом под кручей
1Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся: шел редкий снег, фонари не горели, темная улица была перечерчена длинными желтоватыми полосами света из окон.
Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашел гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке, подумав, ответил:
– Ничего нету.
– А где же переночевать? – сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестевшую старинную медную ручку. – Да вы откройте!
Ответа не последовало. Тот, за дверью, полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это, должно быть, очень грузный человек.
Отойдя от гостиницы, Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своем положении. В этот городок приехал он из Москвы, ездил же он вообще редко и поэтому в дороге почти не спал, а все волновался, радуясь тому, что поехал так далеко, и думая о том, как устроится и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать еще семьдесят верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашел и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решился окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его темными переулками с засыпанными снегом домиками по сторонам опять вверх.
Скоро они очутились в теплом и светлом Доме культуры. Было шумно. В коридоре возились ребята, поглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца.
– Вам комнату? – спросил купец молодым голосом и, морщась, стал отдирать бородку. – Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу.
Отодрав бородку, он погрозил ребятам кулаком, ушел, а через пять минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем.
– Пойдемте! – весело сказал парень и с облегчением вздохнул, а Блохин вдруг решил, что городок этот странный и веселый и что жить здесь, должно быть, просто.
Парень вел его мимо деревянных заборов и каменных оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном сене стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с черными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал:
– Дом внизу стоит, у самой реки, и комнатка ничего, жить можно и все такое, хозяйка только не хороша…
– А что? – спросил Блохин.
– Да так… Вы ведь, наверно, ненадолго? Это у меня там с ней дело одно вышло… А вам что! Деньги платите да не трогайте ее, и все…
– А комната отдельная?
– Отдельная. Вы что, к нам в командировку?
– На практику.
– На практику? Случайно, не в Дом культуры?
– Нет, в библиотеку…
– А-а… Жалко. А то бы можно такие дела развернуть… Чемодан-то тяжелый? Давайте я понесу.
– Ничего, спасибо. В этом доме-то, кроме хозяйки, есть еще кто-нибудь?
– Дочка.
– Да? Интересно… И молодая?
– Дочка-то? – Парень помолчал. – Молодая… Совсем молодая.
«Вон оно что! – подумал Блохин. – Молодая девушка. Наверное, пробовал ухаживать, да неудачно?» И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идет в дом, где живет молодая девушка.
Спустились в овраг, прошли мимо редких черных деревьев, свернули налево и пошли под обрывом. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось, близкое, большое и смутное пространство занесенной снегом реки.
– Это у нас улица Оползино, – объяснял парень. – Берега здесь оползают, а люди живут… Ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ! У каждого свой колодец – кулугуры, черти! У стариков в сараях гробы да кресты стоят – это они после смерти опоганиться боятся, в своих хотят в могилу лечь и под своим крестом…
– Интересно! – изумился Блохин.
– Кому интересно, а кому… – буркнул парень. Он подвел Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была темной, на другой мягко сияли окна, освещая низкий забор со снежными шапками на столбах.
– Ну вот, глядите. А я пошел. Ежели что не так, заходите в Дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колю Балаева, меня там все знают.
Он негромко засвистел и пропал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохин увидел метлу на крыльце, обил снег и постучал.
Дверь ему открыла девушка в халате с подвернутыми полами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у нее были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев Блохина, девушка задержала дыхание, торопливо одернула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь.
– Поговорите с мамой, – задрожавшим голосом перебила она Блохина, когда тот стал объясняться, покраснела и быстро ушла в комнату.
Вышла мать ее, худая женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минуту назад с ней случилось несчастье.
– Комнату? Комнату сдаем… Посмотрите. – Она открыла застекленную дверь и зажгла свет. – Комната у нас хорошая, замечательная… Чистая комната. Вы один или семейный?
– Один.
– Прошлый год профессор жил. Два инженера жили. Комната хорошая, теплая…
Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился.
– Вы как же… надолго приехали? – настороженно спросила хозяйка.
– На месяц, – сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь.
– А комната у меня замечательная, тихая. Как на даче будете жить.
– Сколько же вы берете?
– Да вот профессор жил, так двести рублей платил. Да и то дома почти не бывал.
– Двести? – переспросил Блохин и нахмурился: это было дорого.
– Да еще с его дровами, – заторопилась хозяйка. – Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно. А дрова копеечку стоют. Времена нынче плохие.
Блохину делалось все более неприятно. Но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбирать было не из чего, и Блохин согласился. «Что мне, в конце концов, до хозяйки! – подумалось ему. – Она сама по себе, я сам по себе… Да и не век мне здесь жить!»
– Ну хорошо! – сказал он. За стеной тотчас что-то свалилось.
– Вы, может, погуляете, пока я комнату приготовлю? – спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной.
Блохин с легким сердцем вышел на улицу, закурил. Идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался.
Было Блохину двадцать шесть лет. Он кончал институт и все чаще подумывал о женитьбе, но без любви женитьбы себе не представлял, а полюбить все как-то не приходилось, и это в последнее время всерьез беспокоило и даже угнетало его. Ему, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своем городе, в своем институте – одним словом, дома – ничего необыкновенного произойти не может. Дома было все привычным и обыденным. А необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз, собираясь в дорогу, был почти уверен, что с ним произойдет что-то радостное, кто-нибудь полюбит его… Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в счастливый случай не пропадала.
Сейчас, глядя на снежный простор широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай, то необыкновенное счастье, о котором он мечтал? Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у нее губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что ее смущение может многое означать…
– Хорошо! – громко сказал Блохин и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон… После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил ее вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светилось в темноте нежно-розовым пятном.
«Пожалуй, пора!» – подумал Блохин и пошел назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами.
2Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит все, что делается за стеной.
– Вам и белье давать? – спросила она.
– Конечно, – сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление; неприязнь его к ней росла с каждой минутой.
Белье было постелено, на столе появилась скатерть. Блохин успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось, хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить.
Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в темное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату, а теперь сидит в чужом доме, у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые, быть может, никогда не вспомнят о нем, когда он отсюда уедет.
От этих мыслей Блохину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось. Тогда он встал, походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню.
Девушка переоделась в темное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только еще ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил, понизив голос:
– А где ваша мама?
– Она поросенка кормит.
Голос ее был тих и нежен, ответила она помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы ее слегка вились возле висков, завитки их спускались на лоб, и всю эту слабо сиявшую глянцевитую массу волос прорезал чистый и ровный пробор.
«Сколько ей лет? – размышлял Блохин. – Восемнадцать? Девятнадцать?» Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не двадцать лет, что он некрасив, и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и без конца смотреть на нее. «Еще влюбишься здесь!» – подумал он вдруг невесело.
– Вы что же, работаете, учитесь? – снова спросил он.
Девушка подняла голову. Блохин увидел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой, далекий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него.
– Работаю, – нежно и доверчиво сказала она. – Учетчицей. На том берегу… Поступала в институт, не приняли. Готовилась как сумасшедшая, и вот все зря…
– Скучаете теперь?
– Днем на работе хорошо. Вечером очень скучно. Все одна, одна… Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот… А хорошо, что вы у нас комнату сняли, я не люблю пустых комнат! Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо… Что у нас может понравиться? – Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами.
«Вы, вы мне понравились!» – захотелось сказать Блохину. Но он ничего не сказал.
– Вы были в Москве? – спросил он немного погодя.
Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин заговорил о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно все сильнее звучала хвастливая нотка. А девушка слушала, как слушают сказку: на щеках ее выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышиванье, облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удрученность его и скука бесследно исчезли, он был теперь почти счастлив.
Темный, занесенный снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, Дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты, пустынная широкая река, наконец, этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью – все это теперь казалось ему значительным, интересным и странным.
– Какой вы счастливый! – с откровенной завистью сказала девушка. – А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем.
Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно.
– Вы не знаете, как я мучилась летом… Когда автобиографию писала. Какая у меня автобиография? Три строчки… Родилась, училась, огород копала, стирала, летом по ягоды ходила – и все? Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю: там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме?
– Да тут один паренек привел меня. Из Дома культуры…
– А, знаю! Коля Балаев, да? Он вам ничего не говорил?
– Нет, ничего, – сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. – Ничего не говорил. А что?
– Он жил у нас. Это такой человек! Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали… А мама, – девушка вдруг покраснела, – мама выгнала его. Прямо взяла и выгнала. И на меня… Теперь мы уж не встречаемся.
– Вы любили его, да? – с усилием спросил Блохин.
– Нет… – ответила девушка, подумав. – Нет. Я не знаю еще, как чувствуешь любовь, но это… у нас не было этого.
– Вам наш город понравился? – спросила она спустя минуту.
– Странный какой-то. Дома купеческие, лошади, снег, темно… У нас в Москве нет этого.
– В Москве! – девушка вздохнула; глаза ее снова потемнели. – Наш город старый, восемьсот лет ему, и жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер. Велика гордость! И кино есть, и школы, и техникум, летом все на велосипедах катаются, а жизнь все равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали, а так… все бородатые, вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все староверы живут, и мама у меня староверка, людей не любит… Здесь близко в одном доме молельня есть, собираются, молятся, бормочут. И я бывала, только я не верю ничему. Назло не верю! В комсомол мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю… А зачем это нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу?
У нее показались на глазах слезы, она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника.
– Что это? – спросил Блохин.
– Это? – Девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в темное окно. – Сторож… В колотушку стучит.
– В колотушку? – переспросил Блохин, с изумлением прислушиваясь: до сих пор он никогда не слышал колотушки. – Зачем же в колотушку?
– Не знаю, – неохотно отозвалась девушка. – Стучит… Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит.
«Так-ток-так-ток-так-ток», – раздавался унылый, теперь удаляющийся звук, а Блохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме.
– Но как же это… – громко начал он. – Так же нельзя! Это же черт знает что за жизнь! Почему вы… Я понимаю, конечно, ваша мама… Но мама ваша – пожилой человек! Ее-то жизнь прошла, и у нее потом была совершенно другая жизнь, она родилась до революции, она привыкла так жить… Но вы! Поговорите же с ней, объясните ей! Ну, хотите, я с ней поговорю?
– Не надо, – умоляюще сказала девушка. – Прошу вас, не надо! Это ни к чему не приведет. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз! Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая – сколько у нас таких, если бы вы знали! Привыкаем… Ведь мы – невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали! Вам мама говорила, что у нас профессора жили, – я слышала. Врет она! Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уйдут. А я сколько уж лет живу. Иногда разозлюсь, так бы вот и разбила этот проклятый дом с овцами да с поросятами!
– Так уходите отсюда, уходите! – взволнованно сказал Блохин.
– Уйти… Вы думаете, я не хотела? Да что толку… Куда пойдешь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальности, ни родных, никого в целом свете нет…
В коридоре послышались шаги, девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у двери, хмуро глянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе.
– Чай будете пить? – спросила она через минуту из комнаты.
– Нет, спасибо… – с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце, от разговора в груди остался какой-то горький осадок, было почему-то неприятно и стыдно. Девушка не смотрела больше на него, торопливо продергивала нитки в вышивке, маленькие ее руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук, встал и пошел в свою комнату.
– Постойте! – испуганно сказала девушка.
Блохин обернулся. Прижимая к груди руки, девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши ее жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то.
– Почему вы уходите? – тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. – Я вам рассказала про себя, потому что…
– Таня! – крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка.
– Потому что я давно ни с кем…
– Таня! Иди сюда! Ты что там шепчешься, бесстыдница!
– Сейчас! – злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой.
– Что? Ты слышишь, что я сказала? – Послышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина.
– Мы с вами поговорим еще, хорошо? – шепнула она быстро, обдав его теплым детским дыханием, и ушла.
Блохин вошел в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался, затаив дыхание. «Вот черт! – подумал он, переводя дух. – Ну и жизнь! Что же это такое! Не верится даже, будто во сне!» Он постарался развлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу, и вообще о делах, но голова его горела, перед ним все стояло лицо девушки. «Ее Таней звать, – с состраданием думал он. – А мы так и не познакомились…»
Немного погодя, осторожно постучавшись, вошла хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахару. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный.
Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях…
– Так вы в Москве, значит, живете?
– В Москве.
– Квартира большая у вас?
– Маленькая. Одна комната.
– Так… Одна, значит. Тоже не сладко живете. Женатые?
– Нет еще.
– Зарабатывать-то много собираетесь?
– Не знаю.
– Как же это? Как же не знаете?
– Ну… рублей восемьсот-девятьсот.
– Восемьсот. Так… – В глазах хозяйки мелькнуло что-то, на лице показалось едва уловимое презрение, она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла.
Блохин быстро разделся, потушил свет и лег. Ему не спалось, он ворочался на жесткой холодной кровати, вставал, садился у темного окна, курил.
За стеной слышался шепот, всхлипывания… Поскрипывали половицы, что-то стукалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел.
Когда Блохин заснул, ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах – всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно.
3На следующий день Блохин проснулся с головной болью.
Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замерзли ноги. Матрац тоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски, бока у Блохина болели. На окнах намерзла наледь. В доме было тихо.
Одевшись, Блохин вышел на кухню. Тошнотворно пахло вареной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блохин пошел в коридор, потрогал одну дверь: заперто. Он подергал другую – тоже было заперто. Третья дверь открылась, Блохин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почесывала за ушами поросенка, на лице ее тлела слабая улыбка. Поросенок по самые уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком.
Увидев Блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке и темном старушечьем платке. От одежды и рук ее пахло навозом.
– А я воду-то не нанималась вам носить, – сказала она. – И потом подумала я тут, рассчитала… Надо с вас двести пятьдесят брать за комнату.
– Это почему же? – удивился Блохин.
– То есть как же почему? Белье постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отапливать… Как же почему? Потом свет вы жгете, лампа большая, сто свечей, сколько мне это платить? У меня не кузница, денег я не кую. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить, вы курите много, голова у меня разбаливается.
– Чаю вы мне разогреете? – спросил Блохин и покраснел.
– С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоют. Вставать надо раньше, а то спите развалясь, а вам десять раз самовар грей. А я вдова, мне взять неоткуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала, – уж больно вы жилец беспокойный, Бог с вами…
Блохин молча повернулся, пошел к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила:
– Что же, съезжаете с квартиры, значит?
Блохин молчал, только крепче сжимал зубы.
– Да ведь я вас и не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду, деньги только заплатите за ночлег, скатертью дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался да еще сверх платы прибавил… Инженера тоже жили, покультурней иных-прочих.
– Ну вот что. – Блохин закрыл чемодан, надел пальто. – Вот что: разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь. Сколько с меня? Рублей семь, наверно? Или восемь?