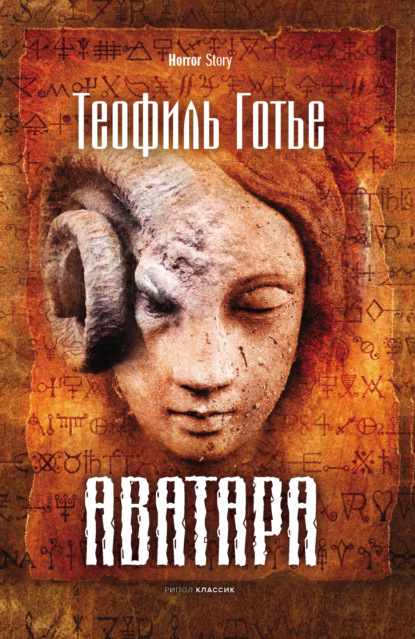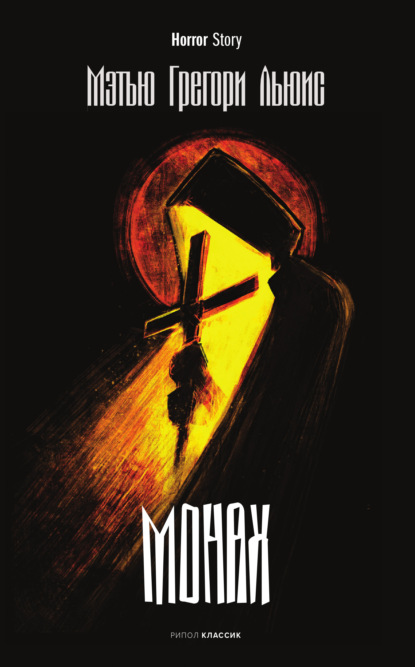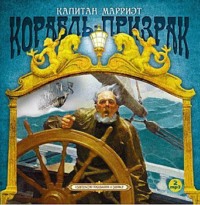Полная версия
Корабль-призрак

Фредерик Марриет
Корабль-призрак
Frederick Joseph Marryat
The Phantom Ship
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
© Издание. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
Борт о борт с вечностью: о романе Ф. Марриета
Английского писателя Фредерика Марриета (1792–1848) принято называть главным английским маринистом, мастером изображения морских приключений и странствий. Марриет был маринистом не только в литературе, но и в жизни: еще в детстве он пытался сбежать на корабль, а в 14 лет стал мичманом Королевского флота. Можно сказать, он обжился в приключениях еще прежде, чем написал первые строки. Во время наполеоновских войн он показал немалую личную смелость, участвуя в атаках на французские корабли под началом легендарного адмирала Кокрейна бой; на Баскском рейде, в котором англичане впервые опробовали корабли, начиненные порохом, в качестве подрывных зарядов, стал образцовым генеральным сражением на море. Марриет видел сквозь сумерки, как исчезали в дыму враждебные корабли, как выпущенные ими ядра пролетали в темном небе, как сильный ветер гнал чужой флот на мель.
Этот бой был не просто блистательной операцией командования: сам Кокрейн с бранью вспоминал, что подкрепление не прибыло вовремя, противник оказался хорошо вооружен, а многие пороховые корабли не достигли целей. Здесь возникало новое отношение к самой стихии: выигрывает не тот, кто придумывает лучший маневр, но кто умеет вовремя усовершенствовать корабли, заменив прежние брандеры, корабли-поджигатели, которые стали казаться варварским орудием всесожжения, на переделанные из транспортников бомбы, дававшие морякам шанс остаться в живых. Морская война превращалась из поля захвата и уничтожения в продолжение сухопутных и даже экономических войн: англичане стремились подорвать экономику Франции и всего континента, тогда как Наполеон учился распределять усилия, добиваясь профессионализма и на суше, и на море.
За время службы Марриет изведал всю Атлантику, увидел Бермуды и Галифакс, несколько раз спасал товарищей, а один раз целый корабль во время шторма, своими руками срубив мачту. Он был одним из тех, кто невольно начал англо-американскую войну в 1812 году: Англия, опасаясь союза США и наполеоновской Франции, попыталась уничтожить молодое государство, истребляя флот и агитируя индейцев на атаку с суши, и на первой линии истребителей американских кораблей находился наш писатель. Нелюбовь к североамериканской независимости, которую, как и саму американскую регулярную армию, тогда отстояло канадское ополчение, Марриет сохранил на всю жизнь: в 1837 году он участвовал в подавлении восстания в Квебеке против власти Британии над Канадой и об Америке писал только плохое, обличая свободную торговлю, выборную демократию, как политическую систему, подходящую для одних циников и демагогов, и превознося, иногда без особых на то оснований, добродетель и милосердие британцев в ходе войны.
Впрочем, право говорить о своих соотечественниках хорошо он заслужил и собственным милосердием: став в 1815 году коммандером (капитаном второго ранга), он принялся за усовершенствование корабельного дела, и, в частности, изобрел вещь, которая, как нам кажется, существовала всегда, – спасательную шлюпку. Собственно, звание коммандера к этому и располагало, в британском флоте все больше возрастало значение шлюпов, внеклассных судов, которые выполняли различные разведывательные и тактические задачи, стали как бы «спецназом» флота; и коммандер обычно ведал шлюпами, а тогда почему бы не создать «спецназ» в виде шлюпок и на самом корабле.
Но, немного отойдя от морских походов и выгодно женившись, Марриет не оставлял военного дела. В 1820 году он, как коммандер шлюпа, засвидетельствовал кончину Наполеона на острове Святой Елены и даже сделал зарисовку ссыльного владыки полумира на смертном одре; вообще он любил делать морские зарисовки во всех путешествиях. На суше ему было скучно: Марриет рвался в бой, участвовал в походе против Бирмы, а в 1829 году, будучи направлен на разведку мелей в районе Канарских островов, он глушил тоску от этого прозаического дела написанием романов. С 1830 года он заявляет о себе как о профессиональном литераторе, выпускающем один роман за другим. «Корабль-призрак», вышедший в 1839 году, стал его двенадцатой книгой.
Сюжет этого произведения несложен: перед нами переработка сказания о «Летучем Голландце», корабле, капитан которого продал душу дьяволу и поэтому никогда не может обрести покой. Рассказ о таком корабле создал или, во всяком случае, распространил по всему Лондону в 1795 году театральный актер, беглый каторжник (укравший в Ковент-Гардене драгоценную табакерку у графа Орлова), литератор Джордж Баррингтон, заставив всех поверить в его правдивость, во всяком случае, весь XIX век появлялись репортажи свидетелей «Летучего голландца». Конечно, этот рассказ – некоторое напоминание о судьбе Голландской Ост-Индской компании, которая в 1798 году окончательно обанкротилась. Наш современник, философ Грем Харман, подробно объяснил неудачу Ост-Индской компании устойчивыми симбиозами, полной зависимостью от акционеров и конкурентов, что и обрекало ее в конце концов на неудачу. Харман точно заметил, что история Ост-Индской компании – история призрачных решений, незапланированных, вызванных обстоятельствами; призраки этих решений до сих пор преследуют нас, когда мы наблюдаем пределы роста фирм и других систем. В отличие от удачи, которая может быть переведена на другой язык, например на язык искусства, воспета или использована для обустройства общества, неудача всегда остается с нами как напоминание о нашей ограниченности обстоятельствами и даже о былых преступлениях. Поэтому когда король Георг V видел призрак «Летучего Голландца», он на самом деле видел ограниченность (даже монархической) власти, ту катастрофичность истории, которая требует продолжения политических реформ. Но история проклятого капитана у Мариетта обросла теми подробностями, которые мог выдумать уже только человек прогрессивного XIX века, выступавший не только за просвещение, но и за смягчение общественных нравов.
Прежде всего, его проклятый капитан немилосерден: во время бунта на корабле он выкинул зачинщика за борт, тем самым позволив гневу возобладать над разумом. Гнев стал вести его к принятию все более порывистых и непродуманных решений, так что в конце концов, прокричав богохульство, он был отвергнут небом, землей и морем. Спасти его может только сын, хранящий семейную реликвию, вспоминая которую, безрассудно клялся его отец, теперь наш герой невзирая ни на что должен доставить ее отцу. Как раз здесь в романе Марриета появляется тень театрального вора Баррингтона: реликвию у жены проклятого капитана украл лечащий врач, и, чтобы вернуть собственность, приходится поджечь дверь дома врача. В этом эпизоде очевиден страх перед театральными пожарами, которые могут запереть зрителей в зале – этот страх сохранялся в Лондоне вплоть до изобретения электричества.
Марриет помогает преодолеть этот городской страх и смотреть драму нового типа, в которой сын капитана женится на дочери нечестного врача, а чувства оказываются сильнее любых оставленных в прошлом пороков. Дочь врача, впрочем, чернокнижница, и история всего произошедшего с ней далее, история, вместившая в себя все ужасы готических романов, говорит нам: призраки живут среди нас и могут мстить. Невозможно просто, как раньше, выстраивать добрососедские отношения с призраками, например с историей своего рода, прощая предкам все их преступления. Надо уметь примириться со злейшим врагом, надо уметь действовать решительно, и в этом отношении любовь не просто взаимное влечение, но знак вселенского примирения двух враждующих кланов.
Единственное, что может нарушить этот мир, появление новых призраков, призраков изуверства, и нелюбовь Марриета к французским и испанским колонизаторам – нелюбовь английского политика и изобретателя к тем, кто опирается на свои традиции и слишком доверяет своим языковым привычкам: если ведьма, значит, преступница. Потом эту же нелюбовь подхватили и многие писатели ХХ века: Марриета очень любили Джозеф Конрад и особенно Эрнест Хемингуэй, который в романе «По ком звонит колокол» (1940), где подрывник, как будто списанный с Кокрейна или Марриета времен операции на Баскском рейде, изображает нравственное преимущество республиканцев, далеко не безгрешных и иногда непростительно жестоких, над франкистами так же, как Марриет – преимущество англичан над колонизаторами континента.
Роман иллюстрирует одно из популярных положений в современной экономической теории, теорему Коуза и Стиглера, согласно которой уменьшение транзакционных издержек делает экономическую систему более устойчивой: например, безупречная работа транспорта способствует развитию всей экономики. На этой теореме построена, в частности, современная урбанистика, создание комфортной деловой среды. Но Марриет смотрит глубже, чем институциональные экономисты ХХ века: он показывает, что снижать издержки на суше и на море нужно по-разному. На суше надо справляться с суевериями, такими как любовь к роскоши, которые и ведут к воровству, пожарам и убийствам, тогда как на море надо прежде всего уметь спасать корабли, а для этого вести морскую хронику, помнить историю каждого корабля, в том числе имена тех убитых, призраки которых и делают корабль проклятым. Иначе говоря, безупречная работа системы должна быть дополнена вниманием к жертвам прежней системы, своего рода «новой этикой», которая и позволяет капитану примириться с зачинщиком бунта, хотя вроде бы «исправить» ничего уже нельзя.
Вообще, связь маринистики с развитием религиозного осознания милости восходит еще к Античности. Так, поэт Диагор Родосский, когда ему говорили, что множество посвятительных картин в храмах о спасении на водах (это были вотивные картины, что-то среднее между мексиканскими ретаблос и живописью Айвазовского, наглядно доказывавшие могущество Посейдона как спасителя) свидетельствуют о реальности богов, отвечал, что мы просто не имеем ни картин, ни каких-либо еще свидетельств от тех, кто молились богам не менее истово, но утонули, а значит, богов нет. Хотя Диагор был атеистом в свое время, христиане признали в нем «своего», ведь он действительно оспорил суеверие, в котором спасение на море отождествляется с материальной роскошью.
Настоящее спасение на море – это совсем другое, это умение в последний момент простить обидчика. Доказательство бытия Божия не в том, что кому-то помогла молитва у святыни, а в том, что сама святыня появилась, была доставлена вопреки всем обстоятельствам – как клятва, как залог готовности и к гибели, и к спасению. Где появляется готовность простить при свидетелях, где сын жертвует всем ради спасения отца, там только Бог принимает жертву и спасает человека от него самого, от бесовских призраков и самообмана. Будем думать именно об этом при чтении романа, который хотя и не принято относить к «вечным» произведениям литературы, прошел с этой милостивой вечностью совсем рядом.
Александр Марков,
профессор РГГУ
Глава I
В половине XVII столетия на окраине небольшого, но укрепленного городка Терноз, лежащего на правом берегу Шельды, почти напротив острова Вальхерен, виднелся несколько выдвинувшийся вперед, по сравнению с другими домами, еще более скромными, небольшой, но весьма опрятный домик, построенный во вкусе того времени. Передний фасад его был окрашен в густо-оранжевый цвет, а оконные рамы и ставни были ярко-зеленые. До высоты приблизительно трех футов от земли стены его были облицованы белыми и синими кафелями, расположенными в виде шахматной доски. К дому прилегал небольшой садик, обнесенный низенькой живой изгородью и окруженный глубокой, наполненной водою канавой, настолько широкой, что через нее нелегко было перескочить. Через эту канаву, как раз против входной двери дома, был перекинут узенький железный мостик с вычурными железными перилами для большей безопасности посетителей. Но в последнее время яркие краски на доме потускнели; несомненные признаки упадка сказывались в оконных рамах, дверных косяках и других деревянных частях строения; синие и белые кафели во многих местах вывалились и не были заменены новыми. Что когда-то домик этот был устроен и содержан с величайшей заботливостью, было так же ясно, как и то, что теперь он был заброшен и запущен.
Внутреннее помещение дома как в нижнем, так и в верхнем этаже состояло из двух больших комнат на лицо и двух, более тесных, выходящих во двор. Передние комнаты могли быть названы большими лишь по сравнению с двумя задними, так как и они имели всего только по одному окну. Верхний этаж, по обыкновению, был приспособлен для спален, в нижнем же этаже обе маленькие комнаты были теперь превращены одна – в прачечную, а другая – в кладовую, тогда как одна из передних комнат представляла кухню и была украшена большими полками, на которых ярко начищенная медная кухонная посуда горела, как жар. Кухня была чрезвычайно опрятна и красива, хотя обстановка ее могла быть названа скорее бедной; даже белый пол в ней был так чист и так гладок, что в него можно было глядеться, как в зеркало. Массивный деревянный стол и два стула с деревянными сиденьями да еще маленькая мягкая кушетка, очевидно, принесенная сюда сверху, из одной из спален, составляли всю меблировку этой комнаты. Другая большая комната была обставлена как гостиная, но какого рода была эта обстановка, теперь никто не мог сказать, так как ничей глаз не проникал в эту комнату вот уже почти семнадцать лет: все эти года комната оставалась запертой и недоступной даже для обитателей этого дома.
В кухне находились два лица; одно из них была женщина на вид лет сорока, измученная и исстрадавшаяся, со следами несомненной красоты в тонких, изящных чертах ее лица и больших темных глазах. Но черты эти вытянулись, исхудали, а тело стало как бы прозрачным и бескровным; лоб ее, когда она задумывалась, покрывался глубокими морщинами, а глаза иногда вспыхивали таким странным огнем, что у вас невольно являлась мысль о безумии этой женщины. По-видимому, здесь было какое-то глубокое, неизлечимое, давнишнее горе, с которым она никогда не расставалась; какое-то хроническое удрученное состояние, от которого ее могла избавить только одна смерть. Она носила на голове вдовий чепец, как это было тогда в обычае, и была одета весьма тщательно, опрятно и аккуратно, хотя все, что было на ней, было далеко не ново и сильно поношено. Она сидела на кушетке, как видно, принесенной сюда ввиду ее болезненного состояния.
Другое лицо сидело на краю большого стола, стоявшего посреди комнаты. Это был полный, здоровый, цветущего вида юноша, лет девятнадцати или двадцати. Черты его лица были правильны, красивы и полны отваги и энергии, а вся фигура дышала силой и мощью, весьма недюжинной. Глаза его смотрели смело и уверенно, и когда вы глядели на него, как он, сидя на столе, по-детски болтал ногами в воздухе, беззаботно насвистывая какой-то избитый мотив, у вас невольно являлось представление, что это бесстрашный, смелый и отчаянный юноша, которого трудно чем-либо запугать или заставить отказаться от раз принятого решения.
– Не уходи в море, Филипп, прошу тебя! Обещай мне, что ты останешься здесь, со мной… Обещай мне это, дитя мое! – молила бедная женщина, протягивая к юноше молитвенно сложенные руки.
– А почему же мне не отправиться в море, матушка? – возразил Филипп. – Что пользы из того, что я останусь здесь, чтобы подохнуть с голода? Клянусь честью, это немногим лучше! Должен же я сделать наконец что-нибудь и для себя, и для тебя! А что другое могу я сделать, как не стать моряком? Мой дядя Вандердеккен предлагает мне взять меня с собой, обещая при этом приличное жалованье. Житье мне будет хорошее на судне, а моего заработка будет хватать тебе на безбедное существование здесь, дома!
– Выслушай меня, Филипп, дитя мое! Я умру, если ты меня оставишь. Ты у меня один на белом свете! Если ты меня любишь, сын мой, – а я знаю, что ты меня любишь, – не оставляй меня, прошу тебя. А если ты уж непременно хочешь уйти в люди, то хоть не уходи в море!
Филипп не сразу ответил; он продолжал тихонько насвистывать, а мать его горько плакала.
– Быть может, ты так настаиваешь на этом потому, что мой отец погиб в море? – спросил он наконец.
– Ах нет, нет! – воскликнула несчастная женщина. – Видит Бог…
– Видит Бог, что? Договаривай, матушка!
– Нет, нет, ничего… Будь милостив, Господи! Сжалься надо мной! Сжалься! – воскликнула несчастная мать, соскользнув с кушетки на пол, и, встав на колени, стала шептать усердную горячую молитву Богу, ища у него помощи и поддержки.
Наконец она поднялась с колен и заняла свое прежнее место на кушетке; лицо ее было спокойнее, чем прежде, и в глазах не виднелось уже прежнего отчаяния.
Филипп, за все это время не проронивший ни слова из уважения к возбужденному состоянию матери, теперь снова обратился к ней:
– Послушай, матушка! Ты просишь, чтобы я оставался на суше и голодал здесь вместе с тобой, что, ты сама понимаешь, не особенно весело! На это я скажу тебе вот что: та комната, что рядом с этой, стоит запертая с тех пор, как я себя помню, а какая тому причина, ты никогда не хотела сказать мне. Но однажды, я помню, когда у нас с тобой не было хлеба и мы не смели надеяться на скорое возвращение дяди, а ты почти обезумела от отчаяния, как это с тобой вообще случается, я помню, как ты тогда сказала…
– Что я тогда сказала? – с тревогой в голосе спросила бедная женщина. – Что я тогда сказала, Филипп?
– Ты сказала, что в той комнате есть достаточно денег, чтобы спасти нас, но затем ты стала плакать и рыдать и кричала, что лучше умереть. Теперь я желаю знать, что там есть в этой комнате и почему она остается запертой столько лет, и я говорю тебе, матушка, или я узнаю об этом, или же уйду в море, одно из двух!
При первых словах Филиппа измученная женщина вдруг как бы застыла и осталась неподвижна, как каменная статуя, затем губы ее постепенно раскрылись, глаза расширились, и казалось, что она утратила способность говорить; она прижала руки к груди, словно хотела сдавить ее или вырвать с корнем мучительную боль, и вдруг упала лицом вперед, и изо рта ее широкой струей хлынула кровь. Филипп проворно соскочил со стола и кинулся к ней, подоспев как раз вовремя, чтобы не дать ей упасть на пол. Он бережно уложил ее на кушетку и с беспокойством смотрел на сильное кровоизлияние.
– Матушка, матушка, что с тобой? – воскликнул он голосом, полным отчаяния.
Но мать долго не могла ему ответить ни слова; она только повернулась на бок, чтобы не захлебнуться кровью, и вскоре белоснежный пол окрасился целой лужей алой крови.
– Говори, дорогая матушка, что мне делать? Как мне помочь тебе? Чего тебе дать?.. Боже милосердый!.. Что это такое?
– Это смерть, сын мой, смерть! – наконец проговорила бедная женщина, впадая в бессознательное состояние от громадной потери крови.
Филипп, страшно озабоченный, кинулся вон из кухни и стал звать соседей на помощь, а когда те пришли и обступили больную, то он побежал что есть духу к врачу, жившему на расстоянии одной мили от его дома, к некому Путсу, маленькому жалкому старикашке, жадному и бессердечному, но прославившемуся своим искусством и знанием. К счастью, Филипп застал старика дома и, конечно, стал настоятельно требовать, чтобы он немедленно отправился к больной.
– Я приду, это вне всякого сомнения! – сказал Путс, говоривший весьма плохо на местном наречии. – Но, мингер Вандердеккен, кто мне заплатит за мои труды?
– Кто вам заплатит? Мой дядюшка, конечно, как только он вернется домой!
– Ваш дядюшка, шкипер Вандердеккен?! Нет, мингер, он уже должен мне четыре гильдера (т. е. четыре голландских червонца), и должен их очень давно; а кроме того, и он, и его судно могут потонуть!
– Он заплатит вам и те четыре гильдера, а также и за этот ваш визит! – с бешенством воскликнул Филипп. – Только идите со мной сейчас же, иначе, пока вы здесь препираетесь со мной, моя мать может умереть!
– Простите меня, молодой человек. Я не могу отправиться: я сейчас вспомнил, что должен посетить ребенка господина бургомистра в Тернозе! – проговорил Путс.
– Так вот что я вам скажу, – воскликнул Филипп, весь красный от гнева, – или вы сейчас же добровольно пойдете со мной, или я вас силой стащу к моей матери, выбирайте любое! Но знайте, что шутить с собой я не позволю.
На этот раз мингер Путс несколько смутился, так как решительный нрав Филиппа был всем известен.
– Я приду немного погодя, мингер Филипп, если только смогу!
– Нет, вы пойдете сейчас, жалкий корыстолюбец, сию же минуту! – закричал Филипп, схватив его за воротник и выталкивая из дверей дома.
– Злодей! Убийца! – кричал Путс, теряя под ногами почву, увлекаемый неукротимым молодым человеком, не внимавшим ни его воплям, ни его мольбам.
Наконец Филипп остановился, заметив, что старик весь почернел.
– Что же, задавить мне вас, что ли, чтобы заставить идти со мной? А идти вас я все-таки заставлю, живого или мертвого, а заставлю!
– Хорошо! – прошипел Путс. – Я пойду с вами, но сегодня же засажу вас в тюрьму! Что касается вашей матушки, то я ни за что на свете… нет, ни за что на свете не сделаю для нее ничего, решительно ничего…
– Имейте в виду, мингер Путс, – возразил Филипп, – что, как жив Бог, видящий нас с вами, я задушу вас здесь на месте, если вы не пойдете со мной и если, придя на место, вы не сделаете для моей матери все, что только в ваших силах; я задавлю вас там, у ее постели! Вам должно быть известно, что я всегда исполняю свои обещания, а потому примите мой совет, следуйте за мной и исполните ваш долг, и вам будет уплачено все до последней копейки, даже если бы мне пришлось для этого продать мой последний камзол!
Вероятно, это последнее уверение Филиппа подействовало на старика сильнее всех угроз; этот тщедушный маленький человечек в руках сильного, здорового юноши казался беззащитным ребенком в руках сказочного великана. Жилище маленького доктора стояло совершенно в стороне от других жилых строений, посреди пустыря, и он не мог рассчитывать на чью-либо постороннюю помощь ранее, чем в каких-нибудь ста шагах от дома Вандердеккена, а потому Путс решил следовать за Филиппом, во-первых, потому что Филипп обещал заплатить ему, а во-вторых, потому что он не мог поступить иначе.
Порешив таким образом, мингер Путс поспешил к больной. Придя к ней, они нашли бедную женщину на руках двух ее соседок, смачивавших ей виски уксусом, чтобы привести в чувство. К больной уже вернулось сознание, но она не могла еще говорить. Путс приказал немедленно перевести ее наверх и уложить в постель и, дав ей принять какое-то средство, поспешил с Филиппом за необходимыми лекарствами.
– Вы, вернувшись, сейчас же дадите принять это вашей матушке, – проговорил он, вручая Филиппу баночку с лекарством, – а я отправлюсь теперь к ребенку бургомистра и после того снова вернусь к вам.
– Смотрите не обманите меня! – сказал Филипп, сопровождая свои слова угрожающим взглядом.
– Нет, нет, мингер Филипп, я бы не поверил вашему дядюшке, но вам я безусловно верю; вы обещали мне заплатить, и я знаю, что вы всегда держите свое слово. Через час я буду у вашей матушки, а вам надо теперь спешить к ней!
Филипп бегом направился к своему дому; после того как больная приняла лекарство, кровотечение совершенно прекратилось. Через полчаса она могла уже, хотя и слабым, чуть слышным шепотом, высказать свои желания сыну. Когда маленький доктор вернулся, он тщательно осмотрел свою пациентку, затем сошел вместе с ее сыном вниз в кухню.
– Мингер Филипп, – сказал он, – видит Бог, что я сделал для вашей матушки все, что мог, но должен сказать, что едва ли можно надеяться, что она когда-нибудь встанет на ноги. Она может прожить день, два, не больше… но я в этом не виноват, мингер Филипп! – добавил он униженным тоном, как бы опасаясь чего-то.
– Ну, что же, видно, такова воля Божия! – мрачно промолвил юноша.
– И вы заплатите мне, не правда ли, мингер Вандердеккен? – продолжал доктор, выждав минутку.
– Да, да, заплачу! – громовым голосом крикнул Филипп, как бы вдруг очнувшись от раздумья.
Немного погодя Путс продолжал:
– Приходить мне к вам завтра, мингер Вандердеккен? Имейте в виду, что это будет стоить вам еще один гильдер, хотя, в сущности, бесполезно тратить деньги и время – больше ничего сделать нельзя.
– Придите завтра, приходите хоть каждый час, если хотите, насчитывайте, сколько хотите, я все заплачу, можете быть спокойны! – сказал Филипп, презрительно кривя рот.
– Это, конечно, как вам будет угодно; ведь, как только она умрет, дом и вся движимость будут ваши, и вы, конечно, продадите все это. Да, да, я приду! У вас будет достаточно денег, чтобы заплатить мне и за несколько визитов! И позвольте вам сказать, мингер Филипп, если вы будете сдавать этот дом, то я желал бы, чтобы вы предложили его мне.