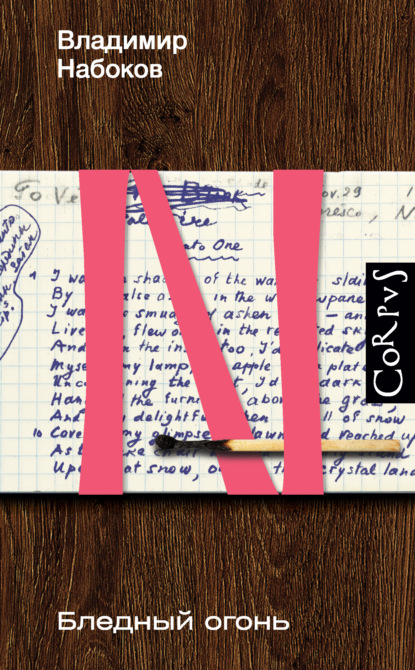Поэмы 1918-1947. Жалобная песнь Супермена

Полная версия
Поэмы 1918-1947. Жалобная песнь Супермена
Жанр: стихи и поэзиялитература 20 векалитературное наследиеархивные материалыиздательство Corpusпоэзия XX векаклассическая поэзиясерьезное чтениеcтихи, поэзия
Язык: Русский
Год издания: 2022
Добавлена:
Серия «Набоковский корпус»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Крым
Назло неистовым тревогам,ты, дикий и душистый край,как роза, данная мне Богом,во храме памяти сверкай.Тебя покинул я во мраке:качаясь, огненные знакив туманном небе спор велинад гулом берегов коварных.Кругом, на столбиках янтарных,стояли в бухте корабли.В краю неласковом скучая,все помню, – плавные поля,пучки густые молочая,вкус теплых ягод кизиля.Я любовался мотылькамистепными, – с красными глазкамина темных крылышках… Теклаот тени к тени золотистой,подобна музыке волнистой,неизъяснимая Яйла!О, тиховейные долины,полдневный трепет над травой,и холм – залет перепелиный…О, странный отблеск меловойрасщелин древних, где у краяцветут пионы, обагряячертополоха чешую,и лиловеет орхидея…О, рощи буковые, где яподслушал, Пан, свирель твою!Воображаю грань крутуюи прихотливую Яйлы, —и там – таинственную тую,а у подножия скалы —сосновый лес… С вершины остройтак ясно виден берег пестрый, —хоть наклонись да подбери.Там я не раз, весною дальной,встречал, как счастье, луч начальныйи ветер сладостный зари…Там, – ночью звездной, я пороюо крыльях грезил… Вдалеке,меж гулким морем и горою,огни в знакомом городке,как горсть алмазных ожерелий,небрежно брошенных, горелисквозь дымку зыбкую, и шумдалеких волн и шорох борамне посылали без разбораза роем рой нестройных дум!Любил я странствовать по Крыму…Бахчисарая тополявстают навстречу пилигриму,слегка верхами шевеля.В кофейне маленькой, туманной,эстампы áнглийские странносо стен засаленных глядят.Лет полтораста им, – и боле:бои былые, – тучи, полеи куртки красные солдат.И посетил я по дорогечертог увядший. Лунный лучбелел на каменном пороге.В сенях воздушных капал ключочарованья, ключ печали, и сказки вечные журчали в ночной прозрачной тишине, и звезды сыпались над садом.Вдруг Пушкин встал со мною рядом и ясно улыбнулся мне…О, греза, где мы не бродили!Дни чередились, как стихи…Баюкал ветер, а будили,в цветущих селах, петухи.Я видел мертвый город: ямыбылых темниц, глухие храмы,безмолвный холм Чуфуткалэ…Небес я видел блеск блаженный,кремнистый путь, и скит смиренный,и кельи древние в скале.На перевале отдаленномприют старик полуслепоймне предложил с поклоном сонным.Я утомлен был… Над тропойсгущались душные потемки.В плечо впивался мне котомкилинючий, узкий ремешок.К тому ж, над лысиною горной,повисла туча, словно черный,разбухший, бархатный мешок.И тучу, полную жемчужин,проткнула с хохотом гроза, —и был уютен малый ужинв татарской хижине: буза,черешни, пресный сыр овечий.Темнело. Тающие свечина круглом низеньком столе,покрытом пестрой скатереткой, —мерцали ласково и кротков пахучей, теплой полумгле.И синим утром я обратноспустился к морю по пятамсвоей же тени. Неопрятноцвели на кручах, тут и там,деревья тусклые Иуды.На камнях млели изумрудыдремотных ящериц. Тропавилась меж садиков веселых.Пел ручеек. На частоколахбелели козьи черепа.О заколдованный, о дальнийвоспоминаний уголок!Внизу, над морем, цвет миндальный,как нежно-розовый дымок,и за поляною поляна,и кедры мощные Ливана —аллей пленительная мгла(любовь любви моей туманной!),и кипарис благоуханный,и восковая мушмула…Меня те рощи позабыли…В душе остался мне от нихлишь тонкий слой цветочной пыли…К закату листья дум моихпри первом ветре обратятся, —но если Богом мне простятсямечты ночей, ошибки дня,и буду я в раю небесном, —он чем-то издавна известнымповеет, верно, на меня!Лондон<30 июня 1920>Электричество
1В Милете был я встарь мечтателем примеченна липком янтаре. Я призрачен. Я вечен.И мной вооружен подводный черный див,мной посылается сияющим деревьямстремительная смерть. Я прикасаюсь к девьимволнистым волосам. Я шелест. Я извив.2Я – сладострастие дней майских, дней махровых:над миром, в мороках удушливо-лиловыхвдруг иступленными я крыльями всплесну;услышишь ты мой бред, рокочущий за тучей;ответят мне леса; промчится дождь гремучий,зеленокудрую преследуя весну.3А ночью летнею, безгласный соглядатай,порой я улыбнусь над дальнею, зубчатой, дубравой, распахнув двустворчатую тьму,чтоб светом окропить ресницы спящей нивы: во сне, в летучем сне, изгнанник сиротливыйтак улыбается былому своему.4За веком веет век. Однажды, грозным богомя встал, где буревал дымился, на пологомозерном берегу: там листья вкруг менявитали, вялые, шурша в полудремоте,и ворон реющий дивился позолотеи злобной пестроте восславленного пня.5И скиф благоговел. Я царствовал жестоко;но вытянулась тень крестильницы высокойи занавесила кровавый истукан.Как прежде, в облаках блистал я и резвился.Плыл тихо грузный мир. Я богом вновь явился;сошел – и расцветил коснеющий туман.6Скользнув над хмурыми земными городами,в стеклянные сердца, висящие рядамивдоль их расчисленных, излучистых путей,на выгнутых мостах, в воде прозрачно-черной, —в те мертвые сердца вложил я, чудотворный,мечту, сплетенную из сорванных лучей.7Над морем заиграл, как солнце в изумруде,мой свет сторожевой. Меня призвали люди,и многому с тех пор людей я научил…Колеса дали мне: стал всякий путь короче.Врачует немощных лазурь моя. Рабочийполунасмешливо мне труд свой поручил.8Вот струны вдоль дорог. Мерцанье звуковое:чу! Даль-разлучницу обманывая, двоедруг с другом говорят; их слезы, что росана розных венчиках, – но верен, безнаветен,как ветер, я ношу невидимый их цветень, —весть и ответствие, – чрез горы и леса.9И это все, приметь, лишь прихоть чародея,влюбленного в звезду! Вращаясь, холодея,чредою будет мир из света плыть во тьму;за поколеньями склонятся поколенья;быть может, я свои умножу проявленья,иносказательно понятные уму, —10но лик мой будет скрыт. Таюсь, неуязвимый.Золотоокие мне служат серафимы…В моем пронзительно-лазоревом раю,неописуемым огнем переливаясь,блистая трепетно и радостно свиваясь,я словно гралица безгранная стою!11И в рай мой снидут все бродившие по склонамтуманным бытия. Над ними, с пышным звоном,я крылья зыбкие раскину, и тогдаих чувство обоймет полета ликованья, —как если б дрогнула вся бездна мирозданьяи в бездне каждая запела бы звезда,12как если б действенный, мгновенный трепет некий, —восторга полнота – продлился бы навеки,все возрастающий; и в этом ярком снеим будет грезиться, что где-то в полдень синийна глади мраморной блаженный блеск павлинийбезмерно ширится, струясь по белизне.Закончено 9–XII–20.Кембридж – ГруневальдНа севере диком
…cтоит одинокоНа голой вершине сосна.Лермонтов1Остров мой хмурый стоит, как в пустыне глухая могила.Жуткая вешняя ночь. Огневые разрывы. Бушуетбуря. То мчатся, ликуя, то бьются челом об утесыгрешные волны. Утром на тихий и пасмурный берегя по тропе каменистой спустилась. Там я любилагрезить о сказочной встрече. Душу мою затуманитьзлобным дыханьем горбунья-судьба еще не успела.Было семнадцать мне лет. Соленый и сладостный ветерв губы меня целовал, и я гулкую песню пела:Посети мой остров темный…Ты запомнишь день сырой,два-три ландыша в овраге,ропот влаги под горой.Ждать тебя на берег мутныйвыйду утром, и вдали —да восстанут из туманавеликаны – корабли.Это всё твои подарки:птицы яркие, цветы,грозди лалов и жемчужин, —ты мне нужен, только ты!Полюби мой остров дивий!Дай в заливе отдохнутькораблям золотозарными о царстве позабудь!Пела, потом приумолкла и шла, окруженная ветром.Пасмурно, пасмурно было… Одни только лужи светилисьна лукоморье унылом… Тяжелые, тусклые волныпосле ночного разгула задумались важно, и тучи,сумрачно-сизые тучи, низко над ними стояли,будто угрюмая рать, на бой опоздавшая… Чайки,в сумраке этом кружась, – как снежинки, блистали и гасли…И подивилась я диву: лежал на галечнике влажномтемный обломок, бревно с полустертой резьбою по краю,а на песке серебристом были следы голубыеголых ступней. Отгремевшее море оставило многораковин – крупных, лунных, полных волшебного гула,полных цветного тумана; одну приложила я к уху,локон холодный откинув, и слышу, и слышу как будтоголос, что пленная птица, чудный тоскующий голос в лунке жемчужной печалится. Вздрогнула я, огляделась: тучи сизели над морем, искрились дальние чайки,сонно вращалась волна; и за мной, об утес прислонившись,словно распятый, стоял человек незнакомый, в лохмотьяхчерных, как листья растений морских, и с кровавою раной на обнаженном плече… И к нему подошла я поспешно:«Кто ты, нежданный? Отколе?ﻕ.ﻕ.» Молча на тусклое мореон указал, а потом с утомленной улыбкою руку дважды к губам прижал… «Ты голоден, гость безглагольный?» На языке непонятном что-то сказал он протяжно… Взгляд его был как напев, звенящий средь ночи глубокой…«Следуй, бездомный, за мной…» И вверх по тропе каменистой, между оскаленных скал и терновых кустов коварных, вместе мы тихо пошли, и внизу, под горою, осталось море, дремотное море, сулящее царства и бури, море, да ветер, как жизнь моя, горький, и свежий, и вольный, море, да ветер, да чайки, блестящие бегло по склонам туч, угрожающих издали… – чайки, и ветер, и море…2Странник у нас поселился в сгорбленной дымной лачуге.Братьям моим, рыбакам черногрудым, могучим и грубым,он помогал расставлять по взморью мережи и частос ними же ночью скитался в тумане, влажном и жадном…Только неловок он был, как недавно ослепший, и пальцы,тонкие пальцы его – то на бурой хватке вёсельной,то в склизкой зыб<и> сетей, – белизной неуместной мерцали.Грозные братья мои, раздувая презрительно ноздри,острые щуря глаза, молчаливо за ним наблюдали —и вдруг, зубами блеснув, проклинали задержку иль промах.Страннику терпко жилось: наш обычай, привычки, законы,быстрый гортанный язык – все было ему непонятно.Я поучала его: как часто на глади песчанойбелым витым черепком чертила я месяц двурогий,домик с дымящей трубой, кита водометного, лодку,мальчика с длинными пальцами и выкликала названья!Он же качал головой, улыбаясь печально и чудно, —точно ребенок ему предлагал пустую забаву…Я полюбила его любовью глухой, суеверной;ночи мои расцвечало зарево снов несказанных;дни проплывали, как тени ветрил… Когда он так тихо,тихо глаза поднимал, мне чудилось – шум отдаленныйкрыльев, смутные песни… Нет, обо мне он не думал…Ветра и моря не слышал… Он думал о чем-то безмерном,жутком и нежном, как даль; и лицо его странно светилось,словно он с мачты высокой видел страну золотую…Горд, своеволен он был. На досугах всегда он чуждалсябратьев моих невеселых, сверстников их бесшабашных,девушек бледных, крикливых, как чайки, печальные чайки,да сонных, злых стариков с глазами как мокрые камни…Помню я праздник ночной… В просторной прибрежной пещередвиженье, гул и огонь; по стенам слезящимся, черным,зáплески пламени рдеют… Стучат деревянные чаши,полные браги мерцающей; хохот гудящий, изгибытемных затылков, локтей, при свете багрово-летучем;девичий жалкий напев, угловато-унылая пляска… Поодаль странник сидит, обхватив колена руками. Тени дрожат на руках – совсем кружевные запястья…«Что ты не пьешь, не поешь? – задорно кричит бородатый хриплый хмельной великанﻕ. – Иль ты брезгаешь нами, тщедушный?»«Полно, он крепче тебя!» – кто-то шутит, и все ему вторят. Тот осклабляется грозно: «Дыхом его опрокину!»«Ну-ка, бурлан, позабавь!» (Меж тем, безучастный и вялый, странник на тени глядит, на багровые зыбкие пятна.) Смех затаили, ждут… Великан к нему вдруг подходит и, неуклюже нагнувшись, прямо в лицо ему дует, мощно и шумно; а он, узкоплечий такой, тонкорукий, молча встает, побледнев, как быстрая пена морская, и точно взмахом крыла сшибает с ног забияку… Помнится, гам поднялся. Благодушно хвалили, дивились. Странник плечами повел и вышел из шумной пещеры. Стало в ней душно и мне; я нагнулась, легко проскользнула.Черный раздвинулся свод; мне навстречу, тиха и безумна, выплыла лунная ночь и, вздохнув, унесла, закружила. Призрачно берег белел; безмолвному грезилось морю море небесное; скалы синели; неслась я неслышно, — словно самые звуки растаяли в лунном сияньи… Вдруг я увидела друга, и ночь, как волшебница, скрылась, нет – превратилась в единый задумчивый луч, прильнувший к бледному лбу человека недвижного. Ожили звуки; выслало море волну, и тихо волна возвратилась;странник ко мне повернулся, узнал, чуть ресницы блеснули.Нет, он меня не любил! Я у ног его села, и снова,снова нахлынула ночь голубая; сложила я руки,старую, старую песню огромной луне подарила:Хоть и рядом сидим, – ты один, я одна…(Серебристая в море вскружилась волна.)Ты безгласен, и бледен, и думой далек.(Просияв, наклонясь, пролилась на песок.)Где блуждает, скажи, твоя туча – душа?(Разостлалась волна, сиротливо шурша.)Ты не хочешь понять – я сказать не могу!(И волна умерла на пустом берегу.)Песнь моя улетела, исчезла. Странник, не глядя,волосы тронул мои ладонью холодной: казалось,радуясь звонкому дару, луна говорит мне: спасибо…3Дни протекали за днями. Уж ветер опрашивал ветви:нет ли янтарных листков? И бредину в лиловом оврагемучил, и мучил березку в нашем саду убогом.Ах, как он стал тосковать, изгнанник таинственный! Тучитяжко над морем влеклись, и глядел он все чаще, все чащес бледной песчаной косы в равнодушную даль – не видать липаруса, белого друга? А я – заклинала я ветер!Выйди, взыграй, волновой! Отклони корабли роковые!О, не пускай их сюда! Занавесь беспросветным туманомостров задумчивый мой, чтоб со мною б остался навекицарь безвестного края! Мольбам моим, скорбным и страстным,ветер лукавый не внял… Помню, в тот день я проснуласьпоздно, и в черный платок завернулась, и вышла лениво.Пасмурно, пасмурно было; к морю я шла и бессвязнодумала все об одном, о любви своей пламенно-пленной:ключ бы найти золотой – пронзительно-яркое слово!Я очутилась у моря, и вдруг мое сердце скатилосьв бездну. Вон там старший брат мой вволакивал лодку на сушу,а там, далече, далече, серебряный узился парус.Молвил спокойно рыбак, на плечо блестящие веславскинув: «Ты опоздала… Купеческий пестрый кораблецдруга увез твоего; торопил он меня: не успеем,ах, не успеем подплыть! Я смеялся», – и, крепко ступая,брат удалился. А там, между морем и мороком, парусвспыхнул в случайном луче и потух – навеки… Прощай же!Светлый, безмолвный скиталец. Не чуяли дольние душигордой твоей красоты, – но и ты, распахнула ль ты двери,тихие двери своих очарованных черных чертогов,полных сиянья, и трепета, и откровений крылатых?Ты не желал! Ты молчал, хоть и двигались губы, – созвучьябыли темны, как слепца сновиденья. Быть может, о странник,ныне, в пустыне печали, не только себя я жалею.Если б, ах, если б меня ты душою заметил, быть может,море бы вдруг превратилось в ограду алмазную, чайки —в легкие радуги, ветер – в напев непрерывной услады!Царь безвестного края, – быть может, заветное счастьерядом с тобою прошло, а ты хоть и слышал, – не понял…21–XII–20ГруневальдПетербург
Так вот он, прежний чародей,глядевший вдаль холодным взороми гордый гулом и просторомсвоих волшебных площадей, —теперь же, голодом томимый,теперь же, падший властелин,он умер, скорбен и один…О город, Пушкиным любимый,как эти годы далеки!Ты пал, замученный, в пустыне…О, город бледный, где же нынетвои туманы, рысаки,и сизокрылые шинели,и разноцветные огни?Дома скосились, почернели,прохожих мало, и онипри встрече смотрят друг на другаглазами, полными испуга,в какой-то жалобной тоске,и все потухли, исхудали:кто в бабьем выцветшем платке,кто просто в ветхом одеяле,а кто в тулупе, но босой.Повсюду выросла и сгнилатрава. Средь улицы пустойзияет яма, как могила;в могиле этой – Петербург…Столица нищих молчалива. В ней жизнь угрюма и пуглива, как по ночам мышиный шурк в пустынном доме, где недавносмеялись дети, пел рояль и ясный день кружился плавно, — а ныне пыльная печальстоит во мгле бледно-лиловой; вдовец завесил зеркала,чуть пахнет ладаном в столовой, и, тихо плача, жизнь ушла. Пора мне помнится иная: живое утро, свет, размах.Окошки искрятся в домах, блестит карниз, как меловаячерта на грифельной доске.Собора купол вдалеке мерцает в синем и молочном весеннем небе. А кругом —числа нет вывескам лубочным: кривая прачка с утюгом, две накрест сложенные трубкисукна малинового, рядсмазных сапог, иль виногради ананас в охряном кубке,или, над лавкой мелочной,рог изобилья полустертый…О, сколько прелести роднойв их смехе, красочности мертвой,в округлых знаках, букве ять,подобной церковке старинной!Как, на чужбине, в час пустынныйвсе это больно вспоминать!Брожу в мечтах, где брел когда-то.Моя синеющая теньструится рядом, угловатоперегибаясь. Теплый деньгорит и ясно и неясно.Посередине мостовойседой, в усах, городовойстолбом стоит, и дворник красныйшуршит метлою. Не горя,цветок жемчужный фонаря,закрывшись сонно, повисаетна тонком, выгнутом стебле.(Он в час вечерний воскресает,и свет сиреневый во мглежужжит, втекая в шар сетистый,и мошки ластятся к стеклу.)Торчит из будки, на углу,зеленовато-водянистыйюмористический журнал.Три воробья неутомимоклюют навоз. Проходят мимопосыльный с бляхой, генерал, в носочках лунных франт дебелый, худая барышня в очках; другая, в шляпе нежно-белой и с завитками на щеках,чуть отуманенных румянцем; газетчик; праздный молодец; в галошах мальчик с пегим ранцем; шаров воздушных продавец(знакомы с детства гроздь цветная, передник, ножницы его). Гляжу я, все запоминая, не презирая ничего… Морская улица. Под аркой, на красной внутренней стенебочком торчат, как гриб на пне,часы большие. Синью жаркой, перед дворцом, на мостовойсияют лужи, и ограда в них отразилась. Там, вдоль сада, над обольстительной Невой, в весенний день пройдешь, бывало: дворцы, как призраки, легки, весна гранит околдовала, и риза синяя реки вся в мутно-розовых заплатах. Два смуглых столбика крылатых за ней, у биржи, различишь. Идет навстречу оборванец: под мышкой клетка, в клетке чиж; повеет Вербой… Влажный глянец на листьях липовых дрожит,со скрипом жмется баржа к барже,по круглым камням дребезжитпролетка грязная, – и стар жеубогий ванька, день-деньскойна облучке сидящий криво,как кукла мягкая… Тоскойтуманной, ласковой, стыдливой,тоскою северной весныцветы и звуки смягчены.Да, были дни, – но беззаконносменила буря тишину.Я помню, город погребенный,твою последнюю весну,когда на площади дворцовой,махая тряпкою пунцовой,вприсядку лихо смерть пошла!Уже зима тускнела, мокла,фиалка первая цвела,но сквозь простреленные стеклацветочных выставок протекиных, болезненных растенийслащавый дух, подобный тениблудницы пьяной, и цветокбумажный, яростный и жалкий,заместо мартовской фиалки,весной искусственной дыша,алел у каждого в петлице.В своей таинственной темницеНевы крамольная душаочнулась, буйная свободаее окликнула, – но звонмогучий, вольный ледоходаиным был гулом заглушен…Неискупимая година!Слепая жизнь над бездной шла:за ночью ночь, за мглою мгла,за льдиной тающая льдина…Пьянел неистовый народ.Безумец, каторжник, мечтатель,поклонник радужных свобод,картавый плут, чревовещатель, —сбежались все; и там и тут,на площадях, на перекрестках,перед народом, на подмосткахзахлебывался бритый шут…Не надо, жизнь моя, не надо!К чему их вопли вспоминать?Есть чудно-грустная отрада:уйти, не слушать, отстранятьдень настоящий, как глухуюзавесу, видеть пред собойне взмах пожаров в ночь лихую,а купол в дымке голубой,да цепь домов веселых, хмурых,оливковых, лимонных, бурых,и кирку, будто паровозв начале улицы, над Мойкой.О, как стремительно, как бойкокатился поезд, полный грез, —мои сверкающие годы!Крушенье было. Брошен яв иные, чуждые края,гляжу на зори через водысреди волнующейся тьмы…Таких, как я, немало. Мыблуждаем по миру бессоннои знаем: город погребенныйвоскреснет вновь, все будет в немпрекрасно, радостно и ново, —а только прежнего, родного,мы никогда уж не найдем…<июль 1921>Olympicum
Стихии вечной выраженья,тебя, о музыка движенья,и, мышцы радостные, вас,усладу сил, послушных воле, —я в этот век огня и боли,я в этот хищный, черный часв стихах прославлю своенравных, —тебя, блаженство взмахов плавных,и, мышцы радостные, вас!Поговорим сперва о круге…Земля, коль верить морякам,шарообразна. Воды, вьюги,и дым, плывущий к облакам,и в теле кровь, и звезды неба, —все, все кружится; человек,дай волю, шарики из хлебакатал бы молча весь свой век.Под бирюзовым облым сводомвращаться медленно народамкруглоголовым суждено,и год вращается за годом,в саду алеет круглым плодомиль сеет круглое зерно.И шаровидны в этом миревсе наслажденья, тени все,и самый Крест – как бы четырелуча в незримом Колесе.Когда на клавишах качаеттоскливый гений яркий сон,он на листе за звоном звонкружочком черным отмечает.Когда струятся к высотеискусства райские обманы,нам в каждой краске и черте, —в изгибах туч, в бедре Дианы, —округлость мягкая мила.Мы любим выпуклые чаши,колонны, грозди, купола, —все круглое; и если в нашиглухие годы, годы зла,мечта, свободней, но угрюмей,сбежала с благостных холмовв пределы огненных углов,геометрических безумий, —то все же прежних мастеровзабыть не смеем мы, не можем,хоть диким вымыслом тревожими ум и зренье; там и тут,на сводах жизни нашей тесной,пленяя плавностью небесной,мадонны-лилии [sic!] цветут…И рой утех, как в улье пчелы,в тебе живут, упругий круг,и ты – мой враг, и ты – мой другв борьбе искусной и веселой.Вот, сокрушительный игрок,я поднимаю локоть голый,и если гибок и широкудар лапты золотострунной —чрез сетку, в меловой квадрат,перелетает блесткой луннойпослушный мяч. Я тоже радсредь плясунов голоколенныхноситься по полю, когда,вверху, внизу, туда, сюда,в порывах, звучно-переменных,меж двух прямоугольных лузмаячит кожаный арбуз.Седой и розовый британец,Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Набоков В. Другие берега. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 273–274.
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу