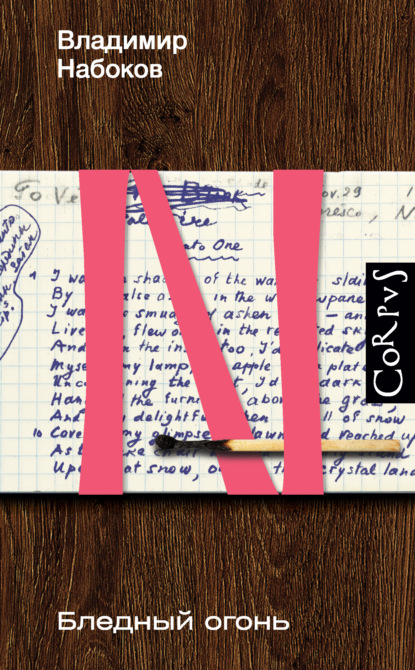Полная версия
Истинная жизнь Севастьяна Найта
«Из-за того, что он с трудом С трудом просыпаясь, Роджер Роджерсон старик Роджерсон купил старый Роджерс купил, так боялся Как человек с трудом просыпающийся, старик Роджерс так боялся проспать завтрашний день. Он с трудом просыпался. Он до смерти боялся проспать завтрашнее событие чудо ранний поезд чудо, что взял да и купил и принес домой купил вечером и принес домой не один будильник а восемь разной величины и с разной силой тикавших девять восемь одиннадцать будильников разной величины тикавших которые будильников как у кошки девять которые он расставил которые превратили его спальню в нечто вроде…»
Жалко, что на этом месте обрывалось.
Иностранные монеты в коробке из‐под шоколада: франки, марки, шиллинги, кроны – и соответствующая им медь. Несколько вечных перьев. Необделанный восточный аметист. Аптечная резинка. Пузырек с пилюлями от головной боли, от нервов, от невралгии, безсонницы, дурных снов, зубной боли. Этот последний посул казался сомнительным. Старая (1926 года) записная книжка с мертвыми телефонными номерами. Фотографические карточки.
Я думал, что увижу множество женских, обыкновенного рода – улыбающихся на солнце летних портретов, с европейской игрой светотени, улыбающихся в белом платье на троттуаре, на песке, на снегу, – но я ошибся. На каждой из двух десятков фотографий, которые я вытряхнул из большого конверта с лаконичной надписью сверху рукой Севастьяна «Г-н N.», была одна и та же личность в разные периоды жизни: сначала сорванец с лунообразным лицом в грубо сшитой матроске, потом невзрачного вида паренек в крикетном картузе, потом курносый юноша и так далее, вплоть до целой серии карточек взрослого господина N. довольно отталкивающего бульдожьего вида, делавшегося все толще и толще на фоне фотографических задников и настоящих палисадников. Я узнал, на какую роль он предназначался, из газетной вырезки, прикрепленной к одной из фотографий:
«Автор, пишущий вымышленную биографию, желает приобрести фотографии мужчины энергической и простой наружности, положительного поведения, трезвенника, предпочтительно холостого. Куплю фотографии детские, отроческие и в зрелом возрасте для помещения в вышесказанном сочинении».
Этой книги Севастьян так и не написал, но, возможно, собирался писать ее в последний год жизни, потому что на последней фотографии, где г-н N. сияет рядом с новым автомобилем, значится «март 1935», а Севастьян умер после этого через год.
Внезапно я почувствовал усталость и уныние. Мне нужно было увидеть лицо его русской корреспондентки. Мне нужны были снимки самого Севастьяна. Мне много чего нужно было… Потом, окинув взглядом комнату, я заметил в тусклой тени над книжными полками две фотографии в рамках.
Я поднялся и стал их рассматривать. Одна была увеличенным снимком какого‐то по пояс обнаженного китайца, которому со всего маху отрубали голову; другая представляла собой банальный фотоэтюд: кудрявый малыш играет со щенком. Такое соседство показалось мне сомнительным с точки зрения вкуса, но, уж наверное, у Севастьяна были свои резоны держать их и повесить так, а не иначе.
Взглянул я и на книги; их было много, растрепанных и разношерстных. Впрочем, одна полка была опрятнее остальных, и здесь я приметил вот какую последовательность, из которой складывалась, как мне мимолетом померещилось, некая до странного знакомая музыкальная фраза: «Гамлет», «Смерть Артура»[26], «Мост Сент-Луис Рей»[27], «Доктор Джекиль и мистер Гайд»[28], «Южный ветер»[29], «Дама с собачкой», «Госпожа Бовари», «Человек-невидимка»[30], «Восстановленное время»[31], Англо-персидский словарь, «Сочинитель Трикси»[32], «Аня в Стране Чудес»[33], «Улисс»[34], «Как покупать лошадь»[35], «Король Лир»…
Мелодия коротко вздохнула и затихла. Я вернулся к столу и принялся разбирать отложенные письма. По большей части это была деловая переписка, и я полагал себя вправе просмотреть ее. Некоторые письма не имели отношения к роду занятий Севастьяна, другие же имели. Тут царил безпорядок, и многие намеки были мне непонятны. В нескольких случаях он хранил копии своих писем, так что передо мной был, например, весь без изъятия, длинный, колоритный диалог между ним и его издателем по поводу одной книги. Затем какая‐то назойливая личность из Румынии запрашивала о правах на издание… Узнал я о количестве проданных книг в Англии и на подвластных ей территориях… Цифры были не блестящие, хотя в одном по крайней мере случае весьма удовлетворительные. Несколько писем было от пишущей братии. Некий писатель, автор одной-единственной известной книги, мягко пенял Севастьяну (от 4 апреля 1928 года) за то, что у него слишком много «Конрада», и советовал ему в будущих книгах радикально изъять его из «конокрада», а остальное беречь «как зеницу», – что мне показалось довольно глупо.
Наконец, в самом низу пачки, я нашел матушкины и свои письма вместе с несколькими от его товарища по университету; и, преодолевая некоторое сопротивление листков (старые письма очень не любят, чтобы их разворачивали), я вдруг понял, куда, на какое отъезжее поле, лежал теперь мой путь.
Пятая глава
Нельзя сказать, что студенческие годы были для Севастьяна Найта счастливым временем. Да, многое из того, что он увидел в Кембридже, пришлось ему по душе, – и сначала он был под сильным обаянием вида, запахов, ощущения страны, к которой его всегда тянуло. В Троицкий колледж со станции он приехал во всамделишном ландо (с извозчиком позади седока): казалось, двуколка эта только его и дожидалась, изо всех сил стараясь дотянуть до этого самого часа, а после с радостью вымерла, как до нее вымерли бáчки и непарный червонец[36]. Уличная слякоть, мокро блестевшая в туманных потемках, и ее предвкушаемый контрапункт – чашка горячего чаю и жаркий камин – образовывали гармоническое сочетание, которое он неведомо как знал на память.
Чистые голоса башенных курантов, то зависавшие над городом, то набегавшие друг на друга и отдававшиеся далеким эхом, каким‐то причудливым, до глубины души знакомым образом сливались с визгливыми выкликами мальчишек-газетчиков. А когда он вступил в торжественную сень Большого Двора[37], где в тумане проходили тени, облаченные в черные академические плащи, а впереди покачивался котелок швейцара, Севастьян почувствовал, что узнает всякое свое ощущение: рьяный запах сырого дерна, старинную звонкость каменных плит под каблуком, размытые очертания темных стен над головой – ну, словом, все. Это особенное восторженное настроение длилось, наверное, довольно долго, но к нему примешивалось нечто иное, что позднее и возобладало. Себе наперекор Севастьян понял – быть может, не без невольного изумления (потому что ждал от Англии больше, чем она могла ему дать), – что, как бы мудро и приятно его новое окружение ни подыгрывало его давнишним мечтаниям, сам он, или, лучше сказать, самое драгоценное в нем, останется в том же безнадежном одиночестве, что и всегда. Одиночество было ключевой тональностью жизни Севастьяна, и чем усердней судьба старалась поуютнее устроить его быт, превосходно подделывая для него вещи, казавшиеся ему нужными, тем более он убеждался в своей неспособности вписаться в картину, все равно какую. Когда он наконец вполне сознал это и начал культивировать суровую самозамкнутость, как если бы она была редким даром или страстью, тогда только Севастьян стал извлекать из ее обильного, мощного произрастания удовольствие, не затрудняясь больше своей неловкостью и необщительностью, – но это пришло много позже.
В начале он, по‐видимому, панически боялся сделать не то, что нужно, или, еще того хуже, допустить какую‐нибудь неловкость. Кто‐то сказал ему, что следует надломить или даже совсем вытащить твердую квадратную распорку из шапки с кисточкой, чтобы оставалось только безформенное черное сукно. Сделав это, он немедленно обнаружил, что совершил грубейший ляпсус всех новичков и что безукоризненный вкус предписывает пренебречь и шапкой, и плащом, отнеся их тем самым к безупречному разряду вещей несущественных, которые в противном случае могли бы посягнуть на некую значительность. Опять‐таки зонтики и шляпы возбранялись независимо от погоды, и Севастьян покорно промокал и простужался, покуда в один прекрасный день не познакомился с Д.В. Горжетом, милейшим, ветреным, ленивым, легким человеком, знаменитым своим бретерством, изяществом и остроумием: и вот Горжет преспокойно ходил в котелке и с зонтиком. Когда я приехал в Кембридж пятнадцатью годами позже и лучший университетский товарищ Севастьяна (ныне известный филолог) все это мне поведал, я заметил ему, что все как будто ходят с – «Точно так, сказал он, Горжетов зонтик расплодился».
– Расскажите, – попросил я, – о спорте, об играх. Хорошо ли Севастьян играл?
Собеседник мой улыбнулся.
– Боюсь, – отвечал он, – что, если не считать непритязательных матчей на размокшем зеленом теннисном корте, где на самых голых проплешинах росло по ромашке, мы с Севастьяном недалеко ушли в спорте. У него была, помнится, замечательно дорогая ракета и очень ему шедшие фланелевые штаны – и вообще он выглядел очень опрятно и хорошо и так далее; но сервировал он слабо, по‐женски, метался туда-сюда, то и дело промахивался, да и я был немногим лучше его, и игра наша сводилась к подбиранию мокрых, позеленевших мячей или бросанию их игрокам на соседних площадках, и все это под безпрерывно моросящим дождем. Словом, в играх он определенно не блистал.
– Что ж, разве это его не огорчало?
– Пожалуй что и огорчало. Первый его семестр был, можно сказать, отравлен сознанием, что в этом отношении он отстает. Когда он познакомился с Горжетом (у меня на квартире), бедный Севастьян до того разошелся на теннисные темы, что Горжет наконец осведомился, употребляются ли в этой игре клюшки. Это несколько утешило его – он решил, что Горжет, который ему сразу понравился, тоже плохой спортсмен.
– В самом деле?
– Как вам сказать… в рагби у него было голубое отличие…[38] но тенниса он может быть и не любил. Как бы там ни было, Севастьян скоро преодолел этот комплекс спорта. И вообще говоря —
Мы сидели в едва освещенной, обшитой дубом комнате, в креслах до того низких, что можно было, опустив руку, взять поднос с чайными принадлежностями, смиренно стоявший на покрытом ковром полу, и дрожащие блики огня, отражавшиеся в медных шарах очага, создавали ощущение, что дух Севастьяна витает над нами. Мой собеседник знал его так коротко, что, надо думать, он не ошибался, предположив, что в усилиях Севастьяна переангличанить самих англичан коренилось чувство какой‐то неполноценности, и хотя это ему никак не давалось, он упорствовал, покуда наконец не пришел к выводу, что его подводят не все эти внешние вещи, не ухищрения новомодного жаргона, но самое его стремление быть и вести себя как все прочие, между тем как он был счастливо обречен на одиночное заключение в себе самом.
Тем не менее он спервоначалу изо всех сил старался быть студентом как все. В коричневом халате и в старых шаркунах на босу ногу, с мыльницей и губкой в клеенчатом мешке, он каждое зимнее утро шествовал в ванное заведение за углом. К утреннему чаю он приходил в столовую и ел овсяную кашу того же понурого серого цвета, что и небо над Большим Двором, с померанцевым вареньем того же точно оттенка, что плющ на его стенах. Он садился на свой «педальон», как выразился источник моих сведений, и, перекинув плащ через плечо, катил от одного лекционного корпуса до другого. Завтракал он у Питта (что‐то вроде клуба, как я понял, где по стенам были, наверное, развешаны картины с лошадями и очень старые лакеи задавали свою вечную загадку: «Вам густого или жидкого?»). Он играл в файвс (уж не знаю, что это за игра такая) или в другую какую‐нибудь нешумную игру, а потом пил чай с двумя-тремя приятелями; разговор ковылял между горячей вафлей и трубкой, тщательно обходя все, что еще не было сказано другими. До обеда оставалось одна или две лекции, а потом опять университетская столовая, весьма импозантное заведение, которое было мне любезно показано. Там шла уборка, и толстые белые икры Генриха Восьмого просились, чтобы их пощекотали[39].
– Где же он сидел?
– Вон там, у стены.
– Как же он туда пробирался? Столы‐то вон какие – чуть не с версту.
– А он вставал на скамью и шагал по всему столу. Иногда по пути ступал в тарелку, но таков уж был обычай.
После обеда он возвращался к себе или отправлялся с каким‐нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где показывали фильму о Диком Западе или о том, как Чарли Чаплин улепетывает от громадного злодея, семеня на поворотах как на льду.
Так он провел три или четыре семестра, а потом с ним произошла интересная перемена. Ему вдруг разонравилось то самое, что, по его мнению, должно было ему нравиться, и он тихо обратился к настоящему своему делу. Внешне эта перемена выразилась в том, что он выпал из распорядка университетского быта. Он больше ни с кем не видался, кроме моего осведомителя, остававшегося в его жизни единственным, может быть, человеком, с кем он держался откровенно и просто, – их связывала искренняя дружба, и я понимал Севастьяна вполне: скромный этот профессор произвел на меня впечатление человека чрезвычайно приятного и самого порядочного. Оба они увлекались английской литературой, и Севастьянов друг уже тогда задумал свой первый опус, «Законы литературного воображения», за который спустя два или три года удостоился Монтгомеровской премии.
– Признаюсь, – сказал он, гладя пушистую голубоватую кошку с серо-зелеными глазами, неизвестно откуда взявшуюся, а теперь удобно устроившуюся у него на коленях, – признаюсь, на этой стадии нашей дружбы Севастьян вызывал у меня тревогу. Когда его не было на лекции, я, бывало, заходил к нему и заставал еще в постели, где он лежал, свернувшись калачиком, как спящее дитя, но при этом угрюмо курил, и смятая подушка была обсыпана пеплом, а простыня, которая свисала до пола, была вся в кляксах. В ответ на мое бодрое приветствие он что‐то бурчал и не соизволивал даже переменить положения; я, бывало, постою-постою, чтобы убедиться, что он не болен, да и уйду завтракать, а после прихожу опять – а он только перевернулся на другой бок и приспособил туфлю под пепельницу. Предложу принести ему что‐нибудь из съестного – у него никогда ничего в буфете не водилось – и потом приду со связкой бананов, и он вдруг начинает шалить как обезьянка и принимается поддразнивать меня какими‐нибудь невразумительными безнравственными сентенциями о жизни, о смерти, о Боге, что он особенно любил делать, потому что знал, что мне это неприятно, хотя я никогда не думал, что он это всерьез. Наконец около трех или четырех часов пополудни он надевал халат и шаркал в гостиную, садился, поджав ноги, у камина и почесывал голову, а я в негодовании удалялся. А на другой день я мог заниматься у себя в берлоге, и вдруг на лестнице слышался громкий топот и в комнату вваливался Севастьян – чистый, свежий, взволнованный, с только что конченным стихотворением.
Все это как будто на него весьма похоже, а одна мелкая подробность представляется мне особенно трогательной. Оказалось, что хотя Севастьян совершенно свободно и естественно изъяснялся по‐английски, тем не менее его речь неоспоримо выдавала в нем иностранца. Его «р» в начале слова было раскатисто-картавым, и он допускал курьезные ошибки – например, мог сказать, что не схватил, а «поймал» насморк, или что такой‐то – «симпатический человек». В некоторых длинных словах вроде «interesting» или «laboratory» он делал ударение не там, где нужно, и неправильно произносил некоторые имена, например «Socrates» и «Desdemona»[40]. Если его поправляли, он в другой раз уж ни за что не делал той же ошибки, но его донельзя расстраивало, что он несовсем уверен в произношении иных слов, и он вспыхивал до пунцовой краски, когда какой‐нибудь не слишком интеллигентный собеседник недопонимал его вследствие случайной оговорки. В ту пору писал он много лучше, чем говорил, но все‐таки его стихотворения отдавали чем‐то не вполне английским. Из них мне не попалось ни одного. Правда, его друг полагал, что одно или два, может быть…
Он спустил кошку на пол и порылся в ящике стола, но ничего не нашел. «Может быть, где‐нибудь в чемодане, у моей сестры, – сказал он неуверенно, – но точно сказать не берусь… Такие мелкие вещицы ходят в любимицах у забвения, да и потом, я знаю, что Севастьян только приветствовал бы их пропажу».
– А кстати, – сказал я, – в вашем воспроизведении прошлое выглядит удручающе мокрым, с метеорологической точки зрения, – да и нынче, впрочем, та же тоска (стоял понурый февральский день). Скажите, неужто никогда не бывало тепло и ясно? Ведь и Севастьян где‐то упоминает «розовые подсвечники огромных каштанов» по берегам какой‐то красивой речки?
Да, верно, и весна, и лето случались в Кембридже почти каждый год (какая‐то странная приятность заключалась в этом «почти»). Да, Севастьян любил беззаботно плыть по Кеми в плоской шлюпке. Но больше всего он любил в сумерках ездить на велосипеде по тропинке вдоль лугов. Там он садился на жердь и смотрел, как перистые облачка на поблекшем вечернем небе переходят от семужных тонов на тускло-медные, и думал. О чем? О той ли девушке из простых, с мягкими, все еще заплетенными в косы волосами, за которой он как‐то раз шел через поле, нагнал, поцеловал и больше никогда не видел? О контуре облака? О дымчатой вечерней заре по‐над черным русским бором (и чего бы я не отдал за такое его воспоминание!)? О тайном смысле травинки и звезды? о неведомом языке безмолвия? о страшной тяжести росинки? о щемящей красоте одного круглого камушка среди галечной тьмы тем, и все‐то они имеют какой‐то смысл, но вот какой? О старом-престаром вопросе «кто ты такой?», с которым обращаешься к самому себе, сделавшемуся в сумерках странно-уклончивым, и к Божьему миру вокруг, которому ты так и не был представлен как следует? А может быть, мы будем ближе к истине, предположив, что когда Севастьян сидел на этой жерди, в его голове толпились слова и мысли – незаконченные мысли, недостаточные слова, – но он уж знал тогда, что только это одно и было его подлинной жизнью и что его предназначенье лежало за этим призрачным полем брани, которое ему в свой срок предстояло перейти.
– Нравились ли мне его книги? О да, и еще как. Мы редко виделись после Кембриджа, и он мне никогда не присылал своих вещей. У сочинителей, как известно, память короткая. Но как‐то раз я взял в библиотеке три его книги и в три же ночи прочитал их. Я и всегда был уверен, что он напишет что‐нибудь замечательное, но я никак не ожидал, что это будет настолько замечательно. В свой последний здесь год… не понимаю, что нашло на эту кошку… она точно вдруг разучилась лакать молоко.
В свой последний год в Кембридже Севастьян много занимался; его предмет, английская литература, был обширным и сложным; но в то же самое время он повадился вдруг отлучаться в Лондон, обыкновенно не испрашивая на то позволения у университетского начальства. Его наставник, покойный г. Джефферсон, был, как я узнал позднее, довольно занудный старик, но зато отличный лингвист, который упорно считал Севастьяна русским. Другими словами, он доводил Севастьяна чуть ли не до белого каления тем, что выкладывал ему весь запас русских слов, какие знал, – а он набрал их целый короб во время посещения Москвы за много лет перед тем, – и просил научить его новым. Наконец в один прекрасный день Севастьян выпалил, что тут недоразумение – он на самом деле родился не в России, а в Софии. При этих словах старик просиял и тотчас заговорил по‐болгарски. Севастьян, смешавшись, отвечал, что он говорит на другом, особенном диалекте, а когда ему было предложено сказать что‐нибудь на нем, сочинил на ходу новое наречие, которое привело старого языковеда в полное замешательство, покуда до него не дошло, что Севастьян —
– Ну вот, теперь вы как будто выжали из меня все, что я знаю, – сказал мой осведомитель с улыбкой. – Мои воспоминания делаются всё тривиальнее и глупее, и не стоит, может быть, и упоминать, что Севастьян кончил курс с высшим отличием и что мы с ним снялись на память в полном облачении, – если хотите, я постараюсь как‐нибудь отыскать эту фотографию и тогда пришлю ее вам. Как, вы уже уезжаете? Не желаете ли пойти посмотреть набережные колледжи?[41] Пойдемте – навестим крокусы, Севастьян их называл «грибами поэта» – вы, конечно, понимаете, что он имел в виду.
Но дождь зарядил не на шутку. Минуты две мы постояли под навесом крыльца, а потом я сказал, что мне, пожалуй, пора.
– Да, вот еще что, – крикнул мне вдогонку друг Севастьяна, когда я уже лавировал между лужами. – Совсем забыл сказать вам. Третьего дня мне ректор говорил, что ему кто‐то прислал просьбу подтвердить, что Севастьян Найт действительно учился в Троицком. Постойте, как бишь его имя? Ах, вылетело… Память села от стирки. И то сказать, мы с вами выполоскали ее на славу. Как бы там ни было, кто‐то, сколько я мог понять, собирает материалы для жизнеописания Севастьяна Найта. Забавно, что у вас как будто не —
– Севастьяна Найта? – послышалось вдруг из тумана. – Кто это тут поминает Севастьяна Найта?
Шестая глава
Произнесший эти слова незнакомец подошел ближе… ах, как мне иногда мечтается о непринужденном ходе хорошо смазанного романа! Как было бы славно, если бы голос этот принадлежал какому‐нибудь старому благодушному профессору с длинными, покрытыми светлым пухом мочками ушей и с этаким прищуром глаз, указывающим на мудрость и наклонность мило шутить… Удобный персонаж, желанный прохожий, тоже знававший моего героя, но только под другим углом зрения. «Ну а теперь, – сказал бы он, – я поведаю вам настоящую историю университетской жизни Севастьяна Найта».
И, не сходя с места, поведал бы ее. Но увы, ничего подобного не произошло. Этот Голос из Тумана раздался в самом тусклом закоулке моего сознания.
Он был лишь отзвуком некоей возможной истины, вовремя напомнившим: не очень‐то доверяй сведениям о прошлом, услышанным из уст настоящего. Остерегайся и самого честного посредника. Помни, что добытое тобою знание – с тройным дном:
повествователем сшито, слушателем перекроено и от обоих сокрыто покойным героем повести. Кто тут поминает Севастьяна Найта? – повторяет внутренний мой голос. Вот именно, кто да кто? Лучший его друг – и его брат по отцу. Скромный ученый-филолог, далекий от жизни, – и смущенный путешественник, заехавший в чужие края. Ну а где же третий? Мирно гниет себе на погосте в Сен-Дамье. Восхитительно живой в пяти своих томах. Незримо теперь заглядывающий мне через плечо, когда я все это пишу (впрочем, надо думать, у него было слишком мало веры в общее место вечности, чтобы поверить даже теперь в собственного своего призрака).
Но что там ни говори, у меня на руках был трофей этой дружбы. К нему я прибавил несколько подробностей, упомянутых в коротеньких письмах Севастьяна того времени, да мимолетных описаний университетского быта, разбросанных в его книгах. Затем я возвратился в Лондон, где у меня был заранее тщательно приготовлен следующий ход.
Когда мы с Севастьяном виделись в последний раз, он между прочим упомянул какого‐то своего секретаря, что ли, услугами которого время от времени пользовался между 1930‐м и 1934 годами. Подобно многим писателям прошлого и в отличие от большинства нынешних (впрочем, не исключено, что те из них, кто не умеет устраивать свои дела и не обладает «пробивной способностью», просто остаются в безвестности), Севастьян был до нелепости безпомощен в деловых вопросах и, найдя себе однажды советчика, предавался ему всецело и с величайшим облегчением, даже если тот оказывался мошенником, или дураком, или тем и другим вместе. Если бы я как‐нибудь спросил его, не кажется ли ему, что такой‐то его помощник – просто навязчивый старый плут, то он тотчас перевел бы разговор на другую тему, до того он боялся, что, обнаружив злоупотребление, вынужден будет расстаться со своей леностью и что‐то предпринять. Словом, он предпочитал скорее иметь негодного помощника, чем вовсе никакого, и мог убедить себя и других, что совершенно доволен своим выбором. Несмотря на все сказанное, я должен подчеркнуть со всей доступной мне определенностью, что с юридической точки зрения мои слова никоим образом не содержат наветного обвинения и что имя, которое я сейчас назову, в предыдущем пассаже не упоминается.
Так вот, от г. Гудмана мне нужно было не столько получить сведения о последних годах Севастьяна – этого мне покуда не требовалось, так как я намеревался следовать за ним по жизни этап за этапом, отнюдь не забегая вперед, – сколько просто справиться, с кем мне следует повидаться из тех, кто мог знать что‐нибудь о жизни Севастьяна после Кембриджа.
Итак, 1 марта 1936 года я посетил г. Гудмана в его конторе на Флит-стрит. Но прежде чем приступить к описанию нашей беседы, позволю себе небольшое отступление.
Среди писем Севастьяна я набрел на вышепомянутую переписку с издателем касательно одного его романа. Из нее мне стало ясно, что некий второстепенный персонаж его первой книги, «Грань призмы» (1925), представляет собой очень смешную и безпощадную пародию одного ныне здравствующего писателя, которого Севастьян счел нужным таким образом пробрать. Издатель, конечно, тотчас догадался, о ком речь, и, будучи в затруднении, советовал Севастьяну переписать все это место, от чего Севастьян отказался наотрез, сказав наконец, что напечатает книгу в другом издательстве, – что он впоследствии и сделал.