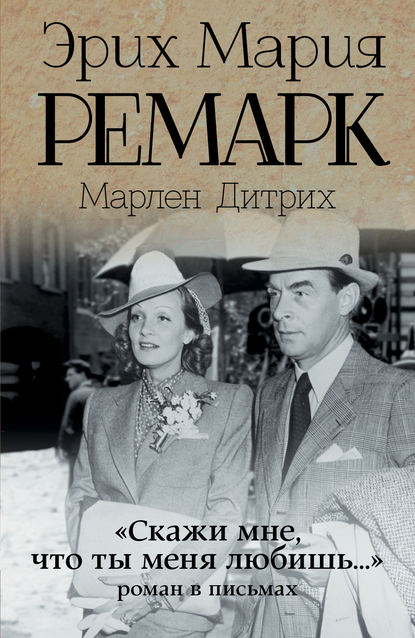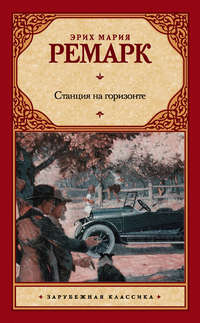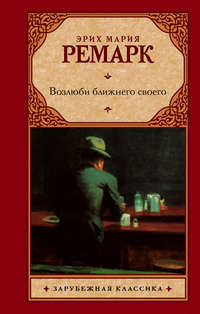Полная версия
Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет
Он не сразу подошел к телефону.
– Это вы прислали мне мою перчатку?
– Да. Вы позабыли ее в баре.
– И цветы тоже от вас? Орхидеи?
– Ну да. Вы что, не видели мою открытку?
– Вашу открытку?
– Что, не нашли?
– Нет! – Лилиан сглотнула. – Еще нет. Откуда эти цветы?
– Из цветочного магазина, – в голосе Клерфэ звучало удивление. – А в чем дело?
– Здесь, в деревне?
– Ну да, но в чем дело? Они что, краденые?
– Нет. Хотя может быть. Не знаю. – Лилиан умолкла.
– Мне к вам приехать? – спросил Клерфэ.
– Да.
– Когда?
– Через час. Тогда уже все будет тихо.
– Хорошо, через час. Со служебного входа?
– Да.
Со вздохом облегчения Лилиан положила трубку. «Слава богу, – подумала она, – есть хоть кто-то, кому ничего не надо объяснять. Кому ты совершенно безразлична и кто не окружает тебя заботой, как Борис».
Клерфэ стоял у дверей служебного входа.
– Вы что, ненавидите орхидеи? – спросил он, кивнув на сугроб под стеной. Цветы и картонка все еще валялись там.
– Откуда они у вас?
– Из небольшого магазинчика, там, внизу, неподалеку от деревни. Да в чем дело-то? Они что, заколдованы злой феей?
– Эти цветы… – Лилиан с трудом подбирала слова. – Это те же цветы, которые я вчера положила на гроб моей подруги. И потом еще раз их видела, перед тем как гроб увезли. Здесь, в санатории, цветы не оставляют. Все увозят, я только что спрашивала у лакея. Вместе с гробом все отправили в крематорий. Я понять не могу, как…
– В крематорий? – переспросил Клерфэ.
– Ну да.
– Бог мой! Лавчонка, где я покупал цветы… там как раз крематорий недалеко совсем. Довольно убогий магазинчик, я еще удивился, откуда такие цветы. Это все объясняет!
– Что?
– Кто-то из крематория, вместо того чтобы сжигать цветы, продал их в магазин.
Она смотрела на него, не понимая.
– Как такое вообще возможно?
– А почему нет? Цветы – они и есть цветы, и все на одно лицо, если одного сорта. Вероятность, что кто-то узнает свои, между нами говоря, очень невелика. А уж вероятность, что редкая орхидея снова вернется в те же руки, которые ее отослали, и вообще настолько ничтожна, что такое совпадение никто в расчет принимать не станет. – Клерфэ взял ее под руку. – Ну что будем делать? Вместе обмирать от ужаса или лучше посмеемся над неистребимой предприимчивостью рода человеческого? Я предлагаю посмеяться; в наши дни, в этом нашем распрекрасном столетии, не будь у нас возможности хоть изредка посмеяться, мир просто утонул бы в слезах.
Лилиан все еще смотрела на цветы.
– Мерзость какая, – прошептала она. – Обкрадывать умершую.
– Мерзость как мерзость, не хуже и не лучше многих других, – отозвался Клерфэ. – Я вот тоже не думал не гадал, что когда-нибудь буду обшаривать убитых в поисках хлеба и сигарет, а пришлось. В окопах. Это только поначалу ужасно, а потом привыкаешь, особенно если голод донимает и без курева сидишь. Пойдемте лучше выпьем чего-нибудь.
Она по-прежнему не отрывала глаз от цветов.
– Так их тут и оставить?
– Конечно. Им уже нет дела ни до вас, ни до покойницы, ни до меня. Завтра пришлю вам новые. Из другого магазина.
Клерфэ откинул полость саней. И мельком успел перехватить взгляд кучера, со спокойным, деловитым любопытством устремленный на орхидеи. Он сразу понял: отвезя их с Лилиан в отель, этот пройдоха непременно сюда вернется и подберет цветы.
И что потом с ними будет, одному богу известно. На секунду Клерфэ задумался – не растоптать ли? Но с какой стати строить из себя Господа Бога? Кому и когда такое было в радость?
Сани остановились. От парадного входа по мокрому снегу переброшены были доски. Лилиан ступила на них. Сейчас, когда она, такая тоненькая, чуть клонясь вперед, придерживая на груди свой изящный жакет, в вечерних туфельках семенила по этой дощаной гати, она вдруг показалась ему диковинным экзотическим созданием, изысканно нездешним и фарфорово-хрупким в ореоле своей болезни, особенно на фоне всех этих топочущих лыжными ботинками здоровяков.
Он шел следом. Во что ты ввязываешься? – крутилось в голове. – И с кем? Но все равно, это совсем не то, что Лидия Морелли, которая час назад звонила ему из Рима. Лидия Морелли, которая назубок знает все уловки и ни одну не способна забыть хоть на миг.
Он нагнал Лилиан в дверях.
– Сегодня вечером, – сказал он, – мы ни о чем говорить не будем, кроме самых пустяшных вещей на свете.
Через час в баре было не протолкнуться. Лилиан глянула в сторону двери.
– А вот и Борис, – проронила она. – Как это я не подумала…
Клерфэ раньше нее завидел русского. Тот медленно протискивался к их столику сквозь толчею отдыхающих, что гроздьями облепили стойку. Клерфэ он демонстративно не замечал.
– Сани поданы, Лилиан, – сказал он.
– Отправь сани, Борис, – ответила она. – Мне они не понадобятся. Это господин Клерфэ. Вы с ним уже встречались однажды.
Клерфэ встал – чуть небрежнее, чем следовало.
– Неужели? – удивился Волков. – Ах да, в самом деле! Простите великодушно. – Он упорно смотрел чуть в сторону. – Это ведь вы были в гоночной машине, которая так напугала лошадей, верно?
Легкая нотка издевки в его голосе не укрылась от Клерфэ. Он ничего не ответил, просто стоял.
– Ты, должно быть, забыла, завтра с утра тебе снова на рентген, – заботливо напомнил Волков.
– Я помню, Борис.
– Но перед рентгеном тебе надо отдохнуть, как следует выспаться.
– Я знаю. Времени еще достаточно.
Она говорила с ним подчеркнуто ровным голосом, как с неразумным, непослушным ребенком. Клерфэ видел: для нее это единственный способ обуздать гнев, который вызывает в ней столь назойливая опека. Ему стало почти что жаль этого русского, настолько плохи, оказывается, его дела.
– Вы присесть не хотите? – не без тайного злорадства осведомился он.
– Благодарю, – холодно бросил тот, словно в ответ официанту, подбежавшему спросить: «Чего изволите?» Должно быть, тоже умеет расслышать издевку. – Мне тут надо еще кое с кем переговорить, – снова обратился он к Лилиан. – А ты тем временем могла бы уже в сани…
– Нет, Борис, я пока что хочу остаться.
Клерфэ все это надоело.
– Это я привез мадемуазель Дюнкерк сюда, – спокойно сказал он. – И, по-моему, я вполне в состоянии доставить ее обратно.
Теперь наконец-то Волков вскинул на него глаза. Он изменился в лице. Но нашел в себе силы улыбнуться.
– Боюсь, вы превратно меня поймете. Но объяснять вам все равно бесполезно.
Он поклонился Лилиан, и на мгновение показалось, что маска надменности на его лице вот-вот расползется. Но он все-таки совладал с собой и направился к бару.
Клерфэ снова сел. Он был собой недоволен. «Что мне здесь надо? – с досадой подумал он. – Мне давно уже не двадцать!»
– Почему бы вам с ним не поехать? – ворчливо спросил он.
– Хотите от меня избавиться?
Он взглянул на нее. Вид у нее был беспомощный, но ему ли не знать: беспомощность – самое страшное женское оружие. По-настоящему беспомощных женщин вообще не бывает.
– Конечно же, нет, – ответил он. – Значит, остаемся!
Она бросила взгляд в сторону бара.
– Он не уходит, – прошептала она. – Остался сторожить. Думает, я уступлю.
Клерфэ потянулся за бутылкой, налил ей и себе.
– Ну и хорошо. Посмотрим, кто продержится дольше.
– Вам его не понять, – с неожиданной резкостью заметила Лилиан. – Это не ревность.
– Нет?
– Нет. Он несчастлив, болен и заботится обо мне. Легко выказывать превосходство, когда ты здоров.
Клерфэ поставил бутылку. Ах ты, сердобольная бестия. Не успеешь тебя спасти, ты уже норовишь отрубить руку спасителя.
– Вполне возможно, – равнодушно проронил он. – Но разве быть здоровым – это преступление?
Она снова повернулась к нему.
– Конечно, нет, – пробормотала она. – Сама не знаю, что я говорю. Думаю, мне лучше уйти.
За сумочку она схватилась, но встать не встала. И хотя она уже порядком успела ему надоесть, сейчас, покуда Волков там, у стойки, ее дожидается, он ни за что ее не отпустит – не настолько уж он успел состариться.
– Ничего, со мной можно не церемониться, – сказал он. – Я не особо чувствительный.
– Здесь все чувствительные.
– Но я-то не здешний.
– Верно, – она вдруг улыбнулась. – Должно быть, в этом все дело.
– В чем же?
– В чем-то, что всех нас сбивает с толку. Разве вы сами не видите? Даже Хольмана, вашего друга.
– Может быть, – озадаченно проговорил Клерфэ. – Наверно, не стоило мне приезжать. И Волкова я тоже сбиваю с толку?
– А вы не заметили?
– Возможно. Только зачем он так старается мне это показать?
– Он уходит.
Клерфэ и без нее это видел.
– А вы? – спросил он. – Вам разве не лучше тоже вернуться в санаторий?
– Кто же это знает? Далай-лама? Я? Крокодил? Господь Бог? – Она подняла бокал. – И кто будет в ответе? Кто? Я? Господь Бог? И за кого? Пойдемте лучше танцевать!
Клерфэ не двинулся с места. Она смотрела на него выжидающе.
– Вы что, тоже за меня боитесь? Считаете, мне нельзя…
– Ничего я не считаю, – невозмутимо ответил Клерфэ. – Просто танцевать не умею. Но если вам так хочется, можем попробовать.
Они направились к танцплощадке.
– Агнесс Зоммервиль все предписания Далай-ламы исполняла, – пробормотала Лилиан, когда тяжелое топанье лыжников обволокло их плотной шумовой завесой. – Все до единого.
4
В санатории было тихо. Начался так называемый час покоя. Пациенты, как жертвы перед закланием, молча возлежали на своих кушетках и шезлонгах, а горный воздух из последних сил вел в их телах безмолвную битву с беспощадным врагом, что в теплом сумраке легких пожирал их изнутри.
В голубых брючках Лилиан Дюнкерк сидела у себя на балконе. Минувшая ночь была уже позади и благополучно забыта. Здесь, наверху, всегда так: с наступлением утра ночные страхи развеиваются, как облачка на горизонте, и, стоит вспомнить, кажутся неправдоподобной, уму непостижимой чушью. Лилиан блаженно нежилась в теплом свете позднего утра. Мягкой, лучистой завесой свет окутывал ее всю, укрывая пеленой забвения день вчерашний, помогая не думать о завтрашнем. Прямо перед ней, в наметенном за ночь сугробчике, стояла бутылка водки, – та, что дал ей Клерфэ.
Зазвонил телефон. Она сняла трубку.
– Да, Борис… Нет, конечно, нет… Да разве мы могли бы докатиться до такого?.. Не будем лучше об этом… Разумеется, ты можешь заехать… Ну конечно, я одна, с кем мне тут быть?
Она вернулась на балкон, прикинула, не спрятать ли водку, но вместо этого принесла рюмку и откупорила бутылку. Водка была ледяная, на вкус замечательная.
– Доброе утро, Борис, – поздоровалась она, заслышав стук двери. – А я водку пью. Ты будешь? Тогда рюмку прихвати.
Откинувшись в шезлонге, она спокойно ждала. Волков вышел на балкон с рюмкой в руке. Лилиан вздохнула: слава богу, никаких нотаций, подумала она. Он налил себе. Она молча протянула ему свою рюмку. Он и ее наполнил до краев.
– В чем дело, душа5 моя? – спросил он. – Рентгена боишься?
Она покачала головой.
– Температура?
– Тоже нет. Даже пониженная.
– Далай-лама уже что-то сказал насчет твоих снимков?
– Нет. Да что он может сказать? Я и знать не хочу.
– Хорошо. За это и выпьем.
Он залпом опрокинул свою рюмку и отставил бутылку подальше.
– Налей мне еще, – попросила Лилиан.
– Ради бога, сколько угодно.
Она глянула на него с любопытством. Знает же: он ненавидит, когда она пьет. Но знает и другое: сейчас он побоится ее отговаривать. Достаточно умен и хорошо изучил ее нрав.
– Повторить? – спросил он вместо этого. – Рюмки-то маленькие.
– Нет, – она отставила рюмку, так и не выпив. – Борис, – начала она, с ногами забираясь в кресло. – Мы слишком хорошо понимаем друг друга.
– Правда?
– Ну конечно. Ты слишком хорошо понимаешь меня, я тебя, и в этом наша беда.
Волков рассмеялся:
– Особенно когда фён дует.
– Не только.
– Или когда загадочные визитеры нагрянут.
– Вот видишь, – подхватила она. – Тебе уже и причина известна. Ты все можешь объяснить. А я ничего. Ты все заранее обо мне знаешь. Как я от этого устала! Скажешь, это тоже фён?
– Фён, а еще весна.
Лилиан прикрыла глаза. Из-под век она чувствовала легкую, беспокойную дрожь – то ли в воздухе, то ли где-то в себе.
– Почему ты не ревнуешь?
– Я ревную. Всегда.
Она открыла глаза.
– К кому? К Клерфэ?
Он покачал головой.
– Так я и думала. Тогда, значит, к чему-то?
Волков не ответил. Зачем она спрашивает? И что вообще знает об этом? Ревность не с ним родилась, не с ним умрет. Она обнимает собою все, начиная с воздуха, которым любимый человек дышит. И не кончается никогда, даже со смертью ревнивца.
– Так что, Борис? – не унималась Лилиан. – Значит, все-таки к Клерфэ?
– Не знаю. Может, к чему-то, что вместе с ним заявилось.
– Да что заявилось-то? – Лилиан потянулась, снова смежая веки. – Можешь не ревновать. Клерфэ через пару дней уедет и забудет про нас, а мы про него.
Какое-то время она молча, с закрытыми глазами, лежала в шезлонге. Волков, сидя чуть позади, читал. Солнце поднялось выше и, тронув глаза теплой лучистой полосой, заиграло под веками оранжево-золотистыми бликами, мгновенно согрев их изнутри.
– Иногда, Борис, меня так и тянет совершить какое-нибудь безрассудство, – призналась она. – Лишь бы разбить этот стеклянный колпак, под который мы угодили. И ринуться туда, вниз – лишь бы прочь отсюда.
– Этого всем хочется.
– И тебе?
– И мне.
– Так чего ради мы тут сидим?
– Это ничего не даст. Только зря о стенки расшибемся. Или, если разобьем – поранимся осколками и истечем кровью.
– И ты вместе со мной?
Борис смотрел в это узкое, точеное лицо. Как же она заблуждается на его счет! А ведь уверена, будто мы знаем друг друга!
– Просто я этот колпак принимаю как данность, – сказал он, хоть это и была неправда. – Так проще, душа моя. Чем убиваться от бессильной ярости, не лучше ли попробовать приспособиться, сжиться?
Лилиан почувствовала, как волной накатывает усталость. Опять эти бесконечные разговоры, в которых застреваешь, как в паутине. Это все правильные вещи, да толку что?
– Принять как данность – это смириться, – пробормотала она немного погодя. – Не настолько я еще состарилась.
«Почему он не уходит? – думала она с досадой. – И зачем я оскорбляю его, хоть вовсе этого не хочу. Зачем упрекаю в том, что он торчит здесь дольше меня, но наделен счастливой способностью относиться к этому иначе, нежели я? Почему меня так раздражает в нем это смирение пленника, который, сидя в темнице, благодарит Бога за то, что его не убили – в то время, как я этого Бога готова возненавидеть за то, что меня лишили свободы?»
– Не слушай меня, Борис, – вздохнула она. – Бог знает, что я несу. Это просто пустой день, и водка, и фён. А еще, наверно, все-таки результатов рентгена боюсь, только не хочу в этом признаваться. Здесь, наверху, когда нет вестей – это плохие вести.
Внизу, в деревне, ударили колокола. Волков встал и приспустил шторы от солнца.
– Эву Мозер завтра выписывают, – сообщил он. – Она выздоровела.
– Знаю. Ее уже два раза выписывали.
– На сей раз она и вправду выздоровела. Мне сама Крокодил сказала.
Сквозь затихающий перезвон колоколов она вдруг расслышала низкий, напористый рев «Джузеппе». Уверенно одолев последние виражи шоссейного серпантина, машина затормозила. Лилиан удивилась: с чего это вдруг Клерфэ пригнал ее сюда, прежде такого не бывало. Волков встал с кресла и глянул в ту же сторону.
– Надеюсь, он не собирается обучать машину азам горнолыжного спуска, – съязвил Волков.
– Скажешь тоже. Что тебе опять не так?
– Он же ее на склоне поставил, вон, за елками. Прямо на краю поляны для начинающих. Нет бы перед отелем, как все люди.
– Захотел и поставил, ему лучше знать, зачем. Скажи лучше, почему, собственно, ты его так невзлюбил?
– Да черт его знает. Наверно, потому, что сам когда-то был таким же.
– Ты? – переспросила Лилиан уже сонным голосом. – Давно же, наверно, это было.
– Да, – проронил Волков с горечью. – Очень давно.
Полчаса спустя она услышала рокот мотора – Клерфэ снова уехал. Борис еще раньше ушел. Она полежала еще немного с закрытыми глазами, всматриваясь в светящуюся мглу у себя под веками. Потом встала и спустилась вниз.
К немалому ее изумлению, на скамейке перед входом сидел Клерфэ.
– Мне казалось, вы недавно уехали, – сказала она, садясь рядом. – Или у меня уже галлюцинации?
– Нет. – Он щурился на ярком солнце. – Это Хольман был.
– Хольман?
– Ну да. Я попросил его сгонять в деревню, водки купить.
– На машине?
– Ну да. На машине. Ему давно пора обратно в тачку.
Издалека уже снова нарастало рычание мотора. Клерфэ встал, прислушиваясь.
– Сейчас поглядим, как он поступит – паинькой вернется сюда или удерет вместе с «Джузеппе».
– Удерет? Куда?
– Да куда угодно. Бензина в баке достаточно. Пожалуй, даже до Цюриха хватит.
– Что? – Лилиан не верила своим ушам. – Что вы такое говорите?
Клерфэ снова прислушался.
– Он не вернется. Поехал по проселку к озеру, а там рванет на шоссе. Смотрите, вон он, прямо под Палас-отелем. Слава богу!
Лилиан вскочила.
– Слава богу? Вы с ума сошли? Отпустить его на все четыре стороны в открытой машине? Хоть до Цюриха! Вы что, не понимаете – он болен.
– Как раз поэтому. А то он уже считал, что водить разучился.
– А если он простудится?
Клерфэ рассмеялся:
– Он тепло одет. К тому же для гонщиков машина – все равно что вечернее платье для женщины. Если платье или машина по вкусу – никакая простуда нипочем.
Лилиан все еще сверлила его глазами.
– А если все-таки простудится? Вы хоть знаете, что это здесь, наверху, значит? Жидкость в легких, рубцы, тяжелый рецидив. Люди здесь от простуды умирают!
Клерфэ смотрел на нее с неприкрытым интересом. Такая она нравилась ему куда больше, чем вчера вечером.
– Хорошо бы, вы сами об этом помнили, когда на ночь глядя, вместо того чтобы в постельке лежать, в Палас-бар удираете, в одном платьишке и атласных башмачках.
– К Хольману это не имеет отношения!
– Разумеется, нет. Но я верю в лечебный эффект запретного плода. Мне казалось, вы тоже.
Лилиан на секунду смешалась.
– Для себя – да, – буркнула она затем, – но не для других.
– Это хорошо. Большинство-то за других предпочитают решать. – Клерфэ все еще смотрел в сторону озера. – Вон он, вон он! Видите? Вы послушайте только, как он повороты берет! Не разучился! Нынче вечером он будет другим человеком!
– Где? В Цюрихе?
– Да где угодно. Может, и здесь.
– Вечером он в постели будет валяться, с температурой.
– Не думаю. Но хотя бы и так! Лучше пару дней с температурой, чем, как в воду опущенный, тайком вокруг машины слоняться и убогим себя считать.
Лилиан вздрогнула. «Убогим! – пронеслось в голове. – Только потому, что он болен. Что он себе позволяет, этот мужлан бесчувственный!» Может, он и ее убогой считает? Ей вспомнился вечер в Палас-баре, когда ему из Монте-Карло звонили. Он тогда вот так же про увечье друга говорил.
– Пара дней с температурой может обернуться здесь воспалением легких со смертельным исходом! – гневно выпалила она. – Но вам, похоже, на это плевать! В случае чего скажете, что для Хольмана это было счастье – умереть, прокатившись напоследок на спортивном автомобиле и почувствовав себя великим гонщиком.
Она тут же пожалела о своей вспышке. Сама не понимала, с чего вдруг она так вскипела.
– Память у вас хорошая, – добродушно усмехнулся Клерфэ. – Это я уже успел заметить. Но успокойтесь: в этой машине сейчас больше рева, чем скорости. С цепями на колесах особо не разгонишься.
И он вдруг обнял ее за плечи. Она сидела молча, не шевелясь. И тут увидела, как далеко внизу, у озера, из-за полоски леса маленькой черной точкой выскочил «Джузеппе». Деловитый, стремительный, он гулким шмелем несся по белому холсту заснеженной, искрящейся на солнце равнины. Она слышала уверенный перестук мотора, многоголосым эхом раскатывающийся в горах. Шмель мчался к шоссе, что ведет к перевалу, на ту сторону, и Лилиан вдруг поняла: именно это ее так волнует. Она проводила глазами исчезнувшую за поворотом машину. Остался только гул мотора, и это был не просто шум – неистовый, призывный, он манил за собой, как барабанный бой, как сигнал к наступлению, к походу неведомо куда.
– Надеюсь, он не удумал и вправду дать деру.
Лилиан ответила не сразу – у нее вдруг пересохло в горле.
– От чего ему удирать? – через силу выдавила она. – Он ведь почти вылечился. Какой смысл как раз сейчас всем рисковать.
– Порой как раз тогда и тянет всем рискнуть.
– Вы бы на его месте рискнули?
– Не знаю.
Лилиан собралась с духом.
– А если бы знали, что никогда не выздоровеете – рискнули бы? – вымолвила она.
– Вместо того, чтобы здесь оставаться?
– Вместо того, чтобы пару лишних месяцев влачить здесь это жалкое существование.
Клерфэ улыбнулся. Жалкое существование ему лично рисовалось несколько иначе.
– Смотря что под этим понимать, – уклончиво заметил он.
– Жизнь с оглядкой, – выпалила Лилиан.
Он усмехнулся:
– Нашли кого спрашивать… Автогонщика.
– Вы бы рискнули?
– Понятия не имею. В таких вещах заранее ничего знать нельзя. Может, и рискнул бы, чтобы, не думая о сроках, напоследок еще раз урвать от жизни все, что зовется жизнью, а может, наоборот, стал бы жить по часам, дорожа каждым днем и каждой минутой. Говорю же, заранее тут ничего не знаешь. Иной раз жизнь такие сюрпризы подбрасывала…
Лилиан выскользнула из-под его руки.
– Но разве этот вопрос вам не приходится решать перед каждой гонкой?
– Да это только выглядит так. На самом деле все по-другому. Я же не из азарта гоняюсь. Только ради денег, и то потому, что ничего другого в жизни не умею. Нет для меня в этом ни романтики, ни жажды приключений. Приключений наш проклятый век мне и так подарил больше, чем достаточно. Вам, вероятно, тоже.
– Да, – отозвалась Лилиан. – Но это все было не то.
Тут оба вдруг снова услышали рокот мотора.
– Он возвращается, – сказал Клерфэ.
– Да. Он возвращается, – с глубоким вздохом повторила Лилиан. – Вы разочарованы?
– Нисколько. Просто хотел, чтобы он снова сел за руль. В последний раз он был за рулем, когда у него кровотечение открылось.
Лилиан следила за контуром «Джузеппе», стремительно приближавшегося по ленте шоссе. И вдруг поняла: лицезреть сейчас сияющую физиономию Хольмана просто выше ее сил.
– Мне надо идти, – порывисто сказала она. – Крокодил меня уже ищет. – И, уже поворачиваясь к подъезду, вдруг спросила:
– А вы когда поедете за перевал?
– Когда вам будет угодно, – только и ответил Клерфэ.
Было воскресенье, а воскресные дни здесь, в санатории, тянулись куда тоскливей будничных. Было что-то мертвенное в этом покое, лишенном привычной медицинской суеты. Врачи заходили в палату лишь по вызову, а их отсутствие пробуждало у пациентов обманчивые иллюзии, будто они здоровы. Они и вели себя по воскресеньям особенно беспокойно, так что под вечер медсестрам частенько приходилось разыскивать лежачих где угодно, только не у себя в палате.
Невзирая на запреты, Лилиан решила спуститься к ужину: по воскресеньям Крокодила на посту обычно не было. Она выпила две рюмки водки, надеясь разогнать вечернюю меланхолию, – не помогло. Надела свое лучшее платье, ведь любимый наряд порой поднимает настроение лучше всяких самовнушений, но не помогло и это. Острый приступ хандры, мировой скорби, препирательств со Всевышним – недуга, который без видимой причины поражал здесь каждого, накатывая внезапно и столь же внезапно проходя, – этот приступ все никак не кончался. Траурной темнокрылой бабочкой он порхал вокруг и не желал улетучиваться.
Лишь войдя в ресторан, она поняла, из-за чего сегодня не в духе. Зал был полон, а посередине, за одним из столиков, восседала Эва Мозер в окружении полудюжины клевретов. Перед виновницей торжества стояли торт, бутылка шампанского, в красивых обертках лежали подарки. Праздновался ее последний вечер в санаторских стенах. Назавтра после обеда намечен был отъезд.
Лилиан уже хотела было повернуть, но тут заметила машущего ей Хольмана. В полном одиночестве тот расположился неподалеку от столика, за которым тремя черными траурными изваяниями застыли латиноамериканцы, – все еще дожидаются смерти Мануэлы.
– Я сегодня ездил на «Джузеппе», – гордо сообщил Хольман. – Вы видели?
– Да. А кто еще вас видел?
– В смысле?