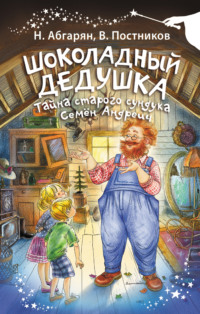Полная версия
Молчание цвета
Склонившись над сумкой, мама дергала язычок молнии, чтобы застегнуть ее. Тяжелые слезы срывались с ее щек и падали на аккуратные свертки с припасами.
Астхик выбежала в прихожую, чтобы попросить тетку не кричать на маму, но ее опередила бабушка: она подошла вплотную к своей дочери и отвесила ей звонкую оплеуху. Та захлебнулась криком, ахнула и прикрыла щеку рукой.
– Может, это не она, а ты виновата в том, что случилось! Никогда об этом не задумывалась?! Нет? А надо было! Кто ее невзлюбил с первого дня свадьбы? Ты! Кто ел ее поедом и сделал все, чтобы они переехали? Ты! – бабушка выплевывала слова, будто выстреливала ими в дочь. Та от каждого ее слова вздрагивала всем телом и съеживалась, уменьшаясь в размерах.
Прислонившись спиной к острому косяку двери, заплаканная Астхик наблюдала несчастный, бьющийся в истерике, израненный и беспомощный женский мир. Каждый пазл развернувшегося перед ее глазами действа – плачущая, все никак не справляющаяся с молнией сумки мама; мертвенно-бледная, разом одряхлевшая бабушка; сгорбившаяся тетка, бесшумно скрывающаяся в своей комнате, – собирался в липкий и душный морок, слепое страшное бельмо, поглощающее дневной свет. Астхик захотелось зажмуриться и никогда больше не открывать глаз, чтобы не позволять тому, что она увидела сейчас, разрушить ее мир.
«Дзынь-донн, дзынь-донн», – бестолковым колокольчиком зазвенел дверной звонок. Без четверти десять. Пора было ехать к папе.
* * *Тетка отказалась выходить из своей комнаты, поэтому с мамой поехала бабушка. Астхик решила тетку не беспокоить и провела долгое время у себя – почитала, посмотрела мультик, пообщалась с Левоном в тиктоке. «Пойдем поиграть?» – написал он ей. «Неохота». «Ладно».
К семи часам квартира погрузилась во мрак.
Тетка все не выходила, и обеспокоенная Астхик решила сама к ней заглянуть. Поскреблась в дверь, не дождавшись ответа, приоткрыла ее. Тетка лежала в кровати, накрывшись с головой. Когда дверь скрипнула, она зашевелилась, но вылезать из-под одеяла не стала.
– Хочешь кофе?
Тетка молчала. Астхик подошла к кровати, присела на краешек.
– Я сварю, ты только скажи.
Гробовая тишина.
Астхик скинула тапки, легла рядом с теткой и прижалась к ней. Та протяжно вздохнула, высунула руку и сгребла ее под одеяло. Девочка обняла ее крепко-накрепко за шею.
– Я тебя так люблю, так люблю… – зашептала тетка.
– И я тебя люблю.
– Я сегодня была невыносимой.
– Ага.
– Со мной достаточно часто так бывает.
– Почти всегда.
Тетка фыркнула – балбеска.
Под одеялом было жарко, но Астхик не шевелилась, чтобы не встревожить то хрупкое ощущение покоя, в котором они пребывали.
– Ты могла бы любить меня чуть меньше, а маму чуть больше? Пожалуйста! – попросила она.
Молчание тянулось вечность.
– Я постараюсь, – наконец отозвалась хриплым голосом тетушка.
Астхик нашарила ее руку, зарылась в ладонь лицом, прогудела:
– Может, все-таки кофе?
– Давай!
К возвращению бабушки на кухне кипела работа: тетушка, замешивая тесто, объясняла племяннице, что месить его нужно до особой, шелковой гладкости, иначе коржи получатся твердокаменными.
– А какими они должны быть?
– Невесомыми и ломкими.
Бабушка совсем вымоталась, но ложиться спать не стала. Она расположилась за столом и, грея руки о чашку с горячим чаем, наблюдала, как дочь с внучкой раскатывают слои для торта «Микадо». О безобразной сцене, разыгравшейся утром, она не вспоминала. Астхик с тетушкой – тоже.
Семь: молчание цвета
Январь прял ледяную крупу без устали, истово, будто соревнуясь с собой же, прошлогодним, когда он умудрился намести за ночь столько снега, что, не выдержав тяжести, обрушились сразу несколько черепичных крыш и плашмя легли ветхие деревянные заборы. Этот январь явно обыгрывал старого – распоров над землей небесную перину, он без конца сыпал сухим пухом, старательно законопачивая всякий угол, всякую щель, всякую мало-мальски видимую глазу трещинку. Накануне Богоявления городок утопал в снегу по колено. К вечеру неожиданно потеплело, всего на пару часов, и этого оказалось достаточно, чтобы снежный покров слегка подтаял поверху. Следом ударил мороз – северный, неумолимый, сковывающий дыхание. Спешно снявшись с речного устья, перелетели ближе к человеческим жилищам стаи галок и ворон и, схоронившись на чердаках и под коньками крыш, ближе к печным и отопительным трубам, притихли. Умолкли дворовые псы.
Предрождественское утро разрисовало застекленные веранды завитушками инея, заледенило дороги. К полудню небо снова заволокло облаками, нахмурилось, заснежило – теперь уже надолго, на многие дни. Единственное, чего хотелось всякому взрослому человеку в такую погоду, – сидеть дома, пить горячий чай и любоваться мигающими огоньками гирлянд. Однако у младшего поколения было на этот счет свое мнение, потому, невзирая на кусачий холод, во дворах и скверах бурлила жизнь: детвора каталась на санках и ледянках, по-южному неумело ходила на лыжах, играла в снежки, возводила и обрушивала снежные крепости… Домой заглядывала с большой неохотой – наспех перекусить, переодеться в сухое и убежать обратно.
Левона, заигравшегося и забывшего про обед, удалось заманить только обещанием пожарить картошку.
– Поем и снова уйду! – заявил он с порога, скидывая на пол комбинезон.
– Пуповину этого ребенка на улице обрезали, вот его постоянно и тянет туда! – выглянув из кухни, привычно пробухтела бабушка и снова скрылась за дверью. Левон прошел в ванную, сунул озябшие руки под горячую воду, ощущая, как блаженное тепло, растекаясь по пальцам и ладоням, устремляется вверх, к локтям, плечам, охрипшему от взбудораженного крика горлу. В желудке заурчало – требовательно, сердито. Левон вытер насухо руки и погладил себя успокаивающе по животу. Нестерпимо захотелось есть.
Картошка скворчала, покрываясь хрустящей зажаристой корочкой. Каждый раз, когда бабушка поднимала крышку, чтобы перемешать блюдо, Левон подбегал к плите и выпытывал, долго ли осталось ждать. Бабушка отодвигала его локтем – боялась, что капли горячего масла брызнут в лицо. «Можно обжечься!» – ворчала она. Картофель румянился и золотился, Левон судорожно втягивал ноздрями воздух и вздыхал: желудок сводило от голода!
Маргарита в гостиной тренькала на пианино очередную фугу Баха, наводя тоску на весь дом.
– Как ты умудряешься не уснуть под эту скукотищу? – сунулся к ней Левон.
– Никак, – фыркнула она и добавила, зловредничая: – Вот отдадут тебя в музыкалку, будешь знать.
– Отдадут, ага! Я на футбол пойду.
– Держи карман шире!
– Мне дед обещал. А я ему обещал играть, как Генрих Мхитарян!
Маргарита задубасила по клавишам. В последнее время она страсть какая была злая! Переживала из-за прыщей, которые, будто сговорившись, бесперебойно выскакивали на ее лице. Притом выбирали они почему-то самые обидные места, где их отовсюду было видно – лоб, например, или крылья носа. Вот сестра и куксилась.
Гево, расположившись на своем любимом пледе, собирал пирамидку. Мама стянула его длинные вьющиеся волосы резинкой, чтобы они не лезли в глаза, и теперь они торчали перьями Чиполлино.
На кухне развернулась очередная война: дед отстаивал свое право есть картошку «аль денте». Он любил ее полусырой, но допроситься у жены, чтобы она отложила ему порцию, не всегда мог – бабо Софа считала недоваренную пищу прямым оскорблением собственного кулинарного дарования и на просьбы мужа отвечала твердым отказом.
– Мам, неужели тебе сложно отложить ему этой треклятой картошки? – не вытерпев, однажды высказал ей сын, которого явно задевало такое отношение к собственному родителю.
– Не сложно, – чуть поразмыслив, снисходительно ответила бабушка.
– Почему тогда не сделаешь, как он просит?
– Раздражает потому что. Подавайте ему, видите ли, картошку «аль денте»! Пусть тогда в сырых клубнях ест, можно с грядки!
– Тебе понравилось бы, если бы моя жена говорила обо мне подобным образом?
Бабушка растерянно заморгала.
– Вот и не подавай ей плохой пример, – не позволяя ей опомниться, закруглил разговор папа.
Томимая неясными муками совести, бабо Софа иногда все-таки позволяла своему отчаянно протестующему мужу подворовывать картошку со сковороды. Правда, сегодня дед качал права аккуратно, почти шепотом, стараясь не привлекать внимания сына, которому домашние негласно отвели роль третейского судьи. И все потому, что с утра уже успел отличиться: бабушка, меняя постельное белье, обнаружила под его матрасом блистеры с лекарством от сердца, которое он якобы принимал. И вместо того чтобы по своему обыкновению учинить ему привычный вынос мозга, прямиком пошла жаловаться сыну. Левон никогда не видел своего папу таким разъяренным. Он аж ногами затопал, когда узнал, что дед игнорирует выписанное доктором лекарство.
– Ты угробить себя хочешь? Не думаешь о себе, о нас хотя бы подумай! – напустился он на своего отца, тряся, словно военным трофеем, блистерами. Крохотные таблетки-сердечки шуршали в прозрачных ячейках, Левон еще подумал, до чего же они хорошенькие и как можно такую красоту не принимать. Это же почти конфеты!
Дед мычал невнятное, отводил глаза. Наконец прочистил горло.
– Они, это, – и он, задрав многозначительно бровь, кивнул куда-то вниз, – убивают.
– Что… убивают? – не понял папа.
Дед покосился на Левона, потом махнул рукой и выговорил в одно слово:
– Мужскуюсилуубивают.
Бабушка, которая все это время, сердито поддакивая сыну, стояла руки в боки рядом, густо покраснела и, обозвав мужа охламоном, вылетела пулей из комнаты. У папы же сделалось такое лицо, будто его щекочут в четыре руки, но он поклялся под страхом смертной казни не рассмеяться. Он кхекнул, хмыкнул, пожевал губами, засунул руки в карманы, покачался с носка на пятку. Но потом все-таки собрался и вновь посуровел лицом.
– Значит так, Казанова. Праздники закончатся – отвезу тебя к врачу. Попросим назначить более, кхм, щадящие таблетки. А пока пей эти. Договорились?
– Посмотрим.
– Пап!
– Ладно.
– От давления лекарство принимаешь?
– Гхм.
– Принимаешь???
– Да.
Поартачившись для проформы, бабушка положила все-таки своему мужу картошки, не преминув уточнить, что терпение ее не безгранично, и в следующий раз пусть он свои коленца где-нибудь в другом месте выкидывает. Особенно в аспекте убывающей мужской силы. А с нее хватит!
Чтобы отвлечь их от перепалки, Левон принялся рассказывать, как здорово сегодня было кататься на санках по узкому пологому закоулочку, который пролегал между соседскими домами.
– Закоулок превратился в каток, санки пролетают с такой скоростью, будто ты на космической ракете! Папа Арика прорубил сбоку ступеньки, чтобы нам легче было подниматься вверх.
– Машин нет? – забеспокоилась бабушка. Закоулок пересекался внизу с узкой, в одну полосу, дорогой, по которой иногда проезжали автомобили.
Левон ее успокоил:
– Не волнуйся, во-первых, папа Арика сделал на тротуаре большой снежный заслон, он не дает нам выехать на дорогу. И потом кто-нибудь из нас обязательно дежурит внизу и предупреждает, если едет машина.
Гево выронил кольцо пирамидки, и оно, медленно вращаясь, откатилось под стол. Левон поднял его и ловко водрузил на место.
– Вот бы Гево там покатать, ему точно понравится! – мечтательно протянул он. – Мы же его, словно маленького, по двору только и катаем. А он ведь скорость очень любит!
Езду Гево любил донельзя. Если нужно было куда-то выбираться на папиной машине, счастью его не было предела. Мама всегда усаживала его на заднее сиденье, у левого окна, сама садилась рядом и всю дорогу держала за руку. Гево ехал, не отрывая взгляда от проносящихся мимо заборов, домов, садов, людей. Особенно оживлялся при виде животных – коров, например, или овец. Вытягивал шею, прилипал носом к стеклу, дышал – восторженно вздыхая. Правда, выходить к ним боялся и стекло опускать не давал. У него были свои санки – с укрепленной спинкой и ремнями, которыми нужно было пристегнуть его к сиденью, чтоб он не свалился. В них дед или папа катали его в снежное время по двору.
Было бы действительно здорово покататься с ним по закоулку. Левон бы прицепил его санки к своему снегокату, поехали бы паровозиком, он – впереди, Гево – сзади. Дед, а? Хоть разочек.
Дед почесал в затылке.
– Ну, если твои родители не против…
Кататься паровозиком Гево очень понравилось. Он сидел в своих санках – румяный от мороза, с блестящими, в белоснежной опушке замерзших ресниц, глазами, обмотанный по нос шерстяным шарфом – и гулил от счастья. Дед помогал дотащить его наверх – Левон бы один не справился, Гево был очень тяжелый, – потом спускался к дороге и подавал знак рукой – можно! И Левон, потихоньку набирая скорость, съезжал по закоулку, стараясь не сильно разгоняться, чтобы контролировать ставший неповоротливым снегокат. Повсюду кружилась мелкая снежная крупа, ветер холодил лицо, радость распирала грудь – казалось, сердце сейчас выпрыгнет наружу и полетит впереди воздушным шариком, указывая путь. Гево даже повизгивал от счастья.
– Хорошо, да? – кричал ему Левон, притормаживая то одной, то другой педалью, чтобы легче было брать небольшие повороты. И, хоть Гево не отвечал, Левон не сомневался, что брату хорошо. Так хорошо, как никогда.
Но в очередной раз, когда, оттолкнувшись ногой, Левон поехал вниз, случилось страшное: поджидавший их у дороги дед вдруг дернулся, схватился за грудь и рухнул ничком на тротуар. Левон сразу понял, что ему стало плохо с сердцем.
– Деееед! – заорал он. – Деееедушкааа!!!
Арик, стянув зубами рукавицу, вытаскивал из кармана мобильник.
– Один-ноль-три! – крикнул ему Левон, хотя не сомневался – номер скорой помощи он помнит хорошо – тикин Сара заставила учеников внести в телефонную книжку и выучить наизусть все номера экстренных служб. Левон добавил ходу, чтобы быстрее доехать до деда. Снегокат замотало и повело боком, он слышал, как санки Гево чиркнули по забору, проехались по прорубленным в снегу ступенькам, скрипя и подскакивая. «Потерпи немножко, миленький, уже скоро», – обратился он мысленно к брату и подался вперед, крепко сжимая руль.
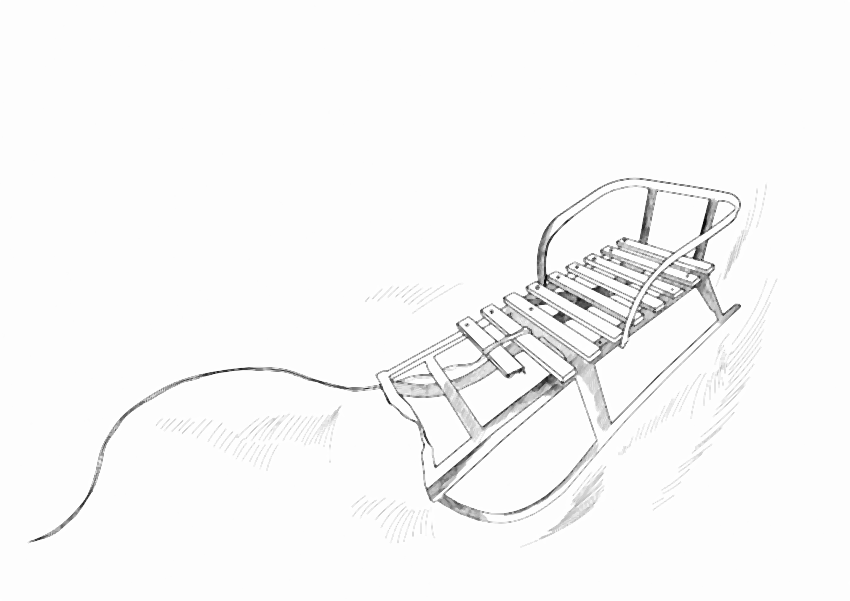
Дорогу осветил свет фар – справа вынырнула большая машина. Кто-то из мальчиков махнул рукой, она стала сбавлять ход. Левон, пытаясь убавить скорость, вдарил по тормозам, но с управлением уже не справился: ведомый тяжестью прицепа, снегокат, проскочив тротуар и пробив заслон, выехал на проезжую часть и опрокинулся. Левона выбило из сиденья, он упал на спину, перекатился на бок, вцепился в полозья санок Гево, которые несло под колеса машины. Та резко затормозила, заскользила по обледенелой дороге, замоталась – хрипя, словно вспугнутое огромное животное… Последнее, что видел Левон, был номер машины – 77, и потом снова – 777. «Так вот почему», – успел он подумать перед тем, как потерял сознание. Больше он ничего не видел, потому что ему отключили свет.
Часть 2
Девять: фиолетовый
Забор был каменный, не очень высокий, но, вознамерься кто-то разглядеть, что за ним происходит, скорее всего, потерпел бы неудачу – обзор заслоняли оставленные на произвол судьбы непомерно разросшиеся фруктовые деревья и бестолково нагороженные постройки. Хозяйство имело неухоженный и даже заброшенный вид. Дощатая стена пустого птичника, опрокинувшись на кусты малины и подмяв их под себя, рассыпалась на отдельные рейки, успевшие пересохнуть и покорежиться от дождевой влаги. В коровнике лениво гулял душный сквозняк, скрипел настежь распахнутой дверью, на которой покачивался, глухо полязгивая, тяжеленный замок с застрявшим намертво заржавленным ключом. Сад и огород наглухо заросли сорной повиликой и ползучим пыреем. Вьюнок, облепив стену амбара, вскарабкался на шиферную кровлю и висел рваной ветошью, шелестя обсушенными летним ветром побегами.
Словно в пику разрухе, царящей во дворе, дом имел ухоженный и вполне гостеприимный вид: свежеокрашенные водосточные трубы окаймляли веселой желтой рамкой его каменный фасад, вымытые до блеска окна бликовали солнечными зайчиками, проемы форточек затягивали тщательно отстиранные марлевые шторки, лучше всяких москитных сеток защищающие не только от назойливой мошкары, но и от вездесущей пыли. Старательно выметенная лестница вела на увитую виноградной лозой веранду, обставленную кое-какой мебелью: продавленным двухместным диваном, журнальным столиком и двумя приземистыми табуретками. Судя по виноградным усикам, увивающим ножки табуретов, пользовались ими крайне редко.
Время было по местным меркам позднее, почти обеденное – половина двенадцатого. Солнце уже успело войти в раж и согреть землю до кусачего жара. Воздух пах раскаленным камнем, подувядшей травой и – требовательно и маняще – свежемолотым кофе. Устойчивый и непрошибаемый дух масляных, прожаренных до шоколадного блеска зерен витал над двором и заросшим сорняком садом, дразнил нюх. В доме готовились к кофепитию: журнальный столик был заставлен толстодонными плошками с крупной черешней, сладкой клубникой и терпко-приторной, стремительно темнеющей от яркого дневного света тутовой ягодой. В отдельной вазочке лежали плоды недозрелого абрикоса, рядом – блюдце с крупной солью. Есть абрикос полагалось, макая его в эту самую соль, удачно оттеняющую кислинку плода и терпковато-горький вкус молочной косточки, которую тоже можно было есть.
Скрипнула калитка, пропуская во двор двух гостий. Идущая впереди Маргарита посторонилась, церемонно уступая дорогу бабо Софе.
– И какая тебя муха укусила?! – хмыкнула та. – В обычный день бешеным бизоном затопчешь, а тут чуть ли не поклоны бьешь!
– Бабо, ты чего?
– Того, чего ты именно и заслужила, Маргарита!
Девочка обиженно дернула плечом. Полным именем ее называли, когда сердились за какие-то проступки. Пока она, надув губы, ждала, бабушка придирчиво разглядывала калитку.
– Полгода прошло, а она будто новая! Вон ведь как твой дед расстарался ради этой вертихвостки…
– Бабо! – укоризненно перебила ее девочка.
– Захрмар! – беззлобно огрызнулась старушка.
На веранду вышла хозяйка дома, но гостьи ее не замечали.
– Обязательно было мне тоже идти?! – скорчила недовольную гримасу Маргарита.
– Обязательно! – И бабо Софа сунула ей пакет, который держала под мышкой. – Сама отдашь! И извиниться не забудь!
Заметив хозяйку дома, с невозмутимым видом наблюдавшую за их перепалкой с верхней ступеньки лестницы, бабушка резко умолкла и подобралась: выпятила внушительную грудь, расправила концы накинутого на плечи нарядного шелкового платка, одернула край юбки. Пошла, важно чеканя шаг, навесив на лицо независимую мину. Проходя мимо запущенного навеса, не преминула цокнуть языком. Покачала головой, с явным осуждением окинув взглядом неухоженный сад. Проделываемая якобы исключительно для себя пантомима имела явное демонстративное намерение. Хозяйка дома, верно истолковав поведение гостьи, даже бровью не повела, но и здороваться первой не стала, хотя молодой возраст обязывал. Она стояла, сложив на груди руки, и с ледяным спокойствием ждала. Красоты она была невозможной: большеглазая, темноволосая, изящно-тонкокостная и, несмотря на небольшой рост, вся какая-то устремленная ввысь, словно застывшая на недолгое мгновение в рывке перед парением. Платье на ней было легкое и короткое, едва прикрывающее колени. Высокие боковые разрезы оголяли ноги до бедра. Запястья украшали нежно позвякивающие серебряные браслеты. Густые волосы, собранные от жары в небрежный пучок, вились крупными локонами и лезли в глаза, и она, не раздражаясь, отводила их плавным жестом от лица.
Маргарита плелась за бабушкой, не отрывая взгляда от пыльных носков своих кед. Лишь раз обернулась к высокому каштану, растущему сразу за каменным забором, поискала глазами кого-то, бесслышно вздохнула. Бабушка же плыла впереди несокрушимым атомным ледоколом. Дойдя до лестницы, она встала руки в боки, задрала голову, смерила колючим взглядом хозяйку дома.
– Марина, здравствуй, – пожевав губами, наконец поздоровалась она и, обернувшись, со значением посмотрела на внучку.
– Здравствуйте. Мы тут вам принесли, – и Маргарита слабо помахала пакетом.
– Свет глазам того, кто вас видел, – деревенским приветствием шутливо отозвалась хозяйка дома. – Так и будете стоять внизу? Поднимайтесь, я как раз собиралась кофе заварить.
– Ну раз собиралась… – И старушка, не давая себя уговаривать, направилась вверх по ступенькам.
– Бабо, может, я не пойду? – заскороговорила ей в спину внучка.
– Еще как пойдешь!
Марина ободряюще улыбнулась.
– Все в порядке, Маргарита.
Дождавшись, пока гости поднимутся на веранду, она предложила им сесть и ушла в дом.
– Перед кем только не приходится извиняться из-за твоих проделок! – хмыкнула бабо Софа. Ее обесцвеченные возрастом блекло-медовые глаза смотрели на внучку с укоризной.
– Так ты же не извинилась! – изумилась Марго.
– Мой приход сюда – уже извинение!
Чуть подвинув столик, чтоб не задеть его коленом, старушка пробралась к дивану, уселась и жестом пригласила внучку сесть рядом. Но девочка плюхнулась на табурет. «Как хочешь», – пожала плечами бабо Софа.
На веранду вышла Марина, неся поднос с дымящейся джезвой и чашками.
– Ей с молоком, – предупредила бабо Софа.
– Конечно.
Разговор не клеился. Перекинувшись дежурными фразами о жаре и взлетевших ценах на электричество, взрослые умолкли. Марго к своему кофе не притронулась, зато несколько раз, словно в поисках поддержки, оборачивалась к старому каштану.
– Брата высматриваешь? – с улыбкой спросила Марина.
– Нет! – смешалась девочка и, раздосадованная своей вынужденной ложью, густо покраснела.
Как она догадалась, что Левон там? Как она вообще могла об этом знать?
Марина достала из принесенного гостьями пакета шелковую, насыщенного фиалкового цвета комбинацию, развернула ее, придирчиво разглядела. Провела пальцем по нежной серебристой вышивке, украшающей кружевной лиф, улыбнулась:
– Это подарок от очень дорогого моему сердцу человека.

Маргарита мигом навострила уши. Бабо Софа, покосившись на нее, нахмурилась, поставила со стуком чашку на блюдце:
– Спасибо за угощение, нам пора.
– Фруктов бы поели, они свежие, я утром купила.
– Обойдемся. Угости ими того, кто тебе эту комбинацию подарил!
Маргарита припустила вниз, позабыв попрощаться. Следом, обмахиваясь от жары концом шелкового платка и нарочито громко причитая, спускалась бабо Софа:
– Сгубила сад, вот и приходится фрукты на базаре покупать. Хотя если денег куры не клюют…
– Не клюют, – выстрелила ей в спину Марина.
На том и разошлись.
* * *С каштана округу было видно, словно на ладони. Ниже, почти напротив – веранда, левее – окно спальни. Шторы были не задернуты, и при большом везении можно было застать Марину полуголой. Они имела привычку ходить в нижнем белье почти до обеда и только потом переодевалась в домашнее. Иногда, облокотившись на подоконник, она подолгу разглядывала одичалый сад, и золотистые от летнего загара ее плечи выделялись в проеме окна двумя светящимися крыльями.
Штору в спальне она задергивала лишь в том случае, когда к ней приходил мужчина. Как правило, он задерживался у нее на пару часов, но иногда мог и на ночь остаться. Левон знал, что он женат и что у него двое сыновей. С младшим они ходили на занятия в спортивную секцию по футболу. Тренер иногда ставил их в пару, и всякий раз, встретившись с ним взглядом, Левон невольно отводил глаза, ощущая себя соучастником неприятной, липкой истории.
Бабо Софа и Марго были уже далеко – еще немного, и скроются из виду. Бабо даже с большого расстояния смахивала на сахарный пончик – кругленькая, уютная, румяная. Маргарита переросла ее на целую голову. Она сильно вытянулась и похудела чуть ли не до прозрачности. Левон резко втянул ноздрями воздух. С недавних пор сестра раздражала его загадочным выражением лица. Спросишь, что с ней такое, многозначительно молчит или смотрит поверх твоей головы, будто тебя не существует. «Дура», – каждый раз выходил он из себя. Она фыркала с такой миной превосходства, что сразу становилось ясно, кто на самом деле дурак.
Левон часто заставал сестру перед зеркалом – она вертелась так и сяк, то плечо выставит, то выпятит тощую попу, то задерет и без того коротенькие шорты и придирчиво разглядывает свои бесконечные спичечные ноги, а то, расправив на плоской груди футболку, встанет боком и изучает свой чахлый остов.
– Сисек никак не дождешься? – не вытерпев, съязвил он как-то и сразу же пожалел. Вместо обычного презрительного фырканья Маргарита кинула в него щеткой, которой битый час водила по своим непокорным волосам, обозвала идиотом, разразилась горькими слезами и убежала в свою комнату.