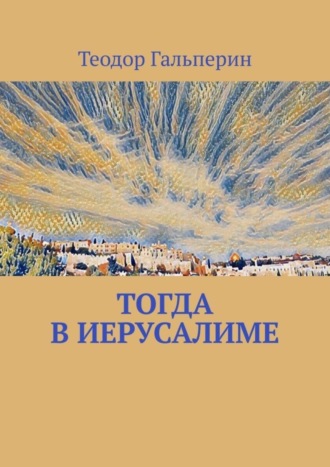
Полная версия
Тогда в Иерусалиме
Мы не знали, что вождь-диктатор расстрелял накануне войны выдающихся полководцев Красной армии на основании признательных показаний, выбиваемых под жестокими пытками, уволил из армии и репрессировал десятки тысяч кадровых офицеров. Мы не знали: в то время как наша армия, преодолевая жестокое сопротивление врага, движется на запад, – на Дальний восток идут поезда с арестованными НКВД нашими солдатами и офицерами, бежавшими из фашистского плена и героически добиравшихся до своих частей, до партизан…
Мы не знали, что мама героя, лётчика-аса Александра Ивановича Покрышкина, в Новосибирске, родине героя, каждый день выходит встречать эти поезда в надежде получить от сына весточку. Ведь у военных аэродромов не было почтовых отделений, а дислокация их была секретной. И порой Ксения Степановна получала эти драгоценные письма…
***
Предпобедный – сорок четвёртый.
Чёрно-белое фото. Александр Иванович Покрышкин – на ВПП авиазавода у новенького Як-9 в окружении летчиков и заводчан. Герою дали краткий отпуск – слетать на родину, в Новосибирск, повидаться с мамой.
У деревянного домика Ксении Степановны собралось множество новосибирцев и я с бабушкой, но мы стояли далеко и нам не было слышно героя, вышедшего на крыльцо. Речь была короткой, он приветственно помахал рукой и ушел. Конечно, устал с перелета.
Но вот я увидел героя совсем близко.
Александр Иванович приехал в пионерлагерь завода, а мне и ещё одной девочке (самым младшим в лагере) было поручено «принять» героя в пионеры. Мы взобрались на небольшую трибуну с разных сторон и вручили Александру Ивановичу красный пионерский галстук. Подошла пионервожатая и повязала ему этот галстук. Александр Иванович подхватил нас своими сильными, уверенными руками аса, сошёл с трибуны и поставил на землю.
Когда я стал серьезно заниматься авиацией, интересоваться психофизикой пилотов, я прочёл книгу Покрышкина «Познать себя в бою». В книге портреты Александра Ивановича – учащийся школы ФЗУ, курсант школы авиатехников. Паренёк из рабочей семьи, очень интеллигентной внешности, с умным пытливым взглядом.
В нём объединились инженерный ум и смелость лётчика. Он умел по секундам в уме рассчитывать времена атаки и стрельбы, учитывая скорость, расстояние, секунды от зрительного обнаружения цели до срабатывания штурвала и бортового орудия.
В нашу автоматизированную эпоху этот расчёт ведут бортовые вычислители, а тогда – умение лётчика за секунды решать тактическую задачу, обеспечивало неуязвимость самолёта. Тогда и родилась его знаменитая формула победы: «Высота – скорость – маневр – огонь!»
Образ умелого и смелого аса, способного, рискуя неприятностями от начальства, нарушить стандартные устаревшие инструкции по ведению боя и не изменяющего совести в непростое время после Победы, до сих пор волнует мою романтическую душу.
***
Но война ещё длится. И длится военный быт мирных жителей.
Передо мной две, чудом сохранившиеся, детские книжки с дарственной надписью от мамы. На сероватой бумаге, с чёрно-белыми иллюстрациями. Государственное издательство детской литературы, 1943 год, Москва-Ленинград. Одна книжка – Михаил Пришвин «Лисичкин хлеб» (в детстве эти рассказики о природе, о животных были очень любимы детворой). Другая – сборник народных сказок, разных народов нашего тогдашнего Отечества: русские, украинская, белорусская, латышская, казахская, калмыцкая, осетинская, азербайджанская. В дни грандиозных сражений страна не забывала о своих детях!
Все новости-сводки Совинформбюро доходили только по репродуктору трансляционной сети. (Радиоприёмники были запрещены, электророзетки запечатаны. Нарушение секретности каралось.) Все сводки о положении на фронтах редактировались в Кремле, реальные события приукрашивались, о сдаче городов сообщалось только через несколько дней, о сдаче Киева не сообщали. О гигантских потерях узнавали от вернувшихся фронтовиков-инвалидов, отвоевавших навсегда.
Жизнь поддерживалась продуктовыми карточками, весьма скудными. Ложка отваренной лапши на ужин – уже хорошо! Масло, молоко покупали у местных крестьян, привозивших продукты во двор нашего дома, что-то покупали на рынке. Для выращивания овощей завод раздавал сотрудникам небольшие участки земли, в основном, помню, для картофеля. В конце лета картофель выкапывали и собирали. В квартире был шкаф-овощехранилище с отсеками для картофелин разного размера. Шкаф загружался сверху, а снизу были небольшие дверцы, через которые при открывании картофель вываливался под давлением.
Конечно, продуктов не хватало. Топлёное масло покупали у крестьян, они его черпали из большой канистры (или ведра), перекладывали в нашу тару – бидоны, банки. Увы, Отечество в опасности, но и здесь встречались порой свои жулики: масло разбавляли водой, потом оно отстаивалось и разделялось на две фракции – воду и масло. Масло можно было пробовать при покупке, и я научился по вкусу сразу понимать, что масло разбавленное. Вскоре бабушка убедилась в правильности моих показаний. Даже соседи неоднократно просили «взять пробу» для них.
Где-то был и рынок, бабушка порой направлялась и туда. А чем платили? Цены были высокие, по сравнению с зарплатами. Кто-то обменивал вещи, но у нас ничего не было для обмена. Бабушка занялась мелким предпринимательством. Большой дефицит был в металлических пёрышках, 86-х (так они прямо и назывались 86-е). Тогда ведь ещё не были широко распространены авторучки с чернилами, о возможности шариковых и не подозревали. Были вставочки – деревянные стерженьки с металлическим держателем под вставное металлическое пёрышко. Чернила заливались в чернильницу-непроливайку, куда пёрышко обмакивали. И вот у секретариата (мамы и её подруги Раи, секретаря директора-генерала) таких пёрышек было в избытке, получить их не представляло труда. И бабушка обменивала эти пёрышки на продукты. Сейчас об этом вспоминаю с улыбкой, а тогда…
Для детей выдавали на заводе ириски из гематогена (для поддержания витаминного обмена). По ленд-лизу от США поступала тушёнка. И это было большим подспорьем. Поступала и одежда. Я до сих пор помню доставшийся мне американский костюмчик – курточка и короткие штанишки светлого фона в синюю тонкую полоску.
Прилетавшие за Як-ами пилоты порой дарили маме плитку шоколада, и она была, увы, только для меня, хотя в то время я об этом не знал. Знал только, что получаемый по карточкам кусковой сахар-рафинад предназначался также – только для меня.
Ах, эти шоколадки! – помнятся всю жизнь, столь это было редко. А пончики! О, это было только один раз – в поездке в Бердск к другому генералу, директору завода-смежника…
***
Начался победный 45-й. В начале года лабораторно-производственные отделения института №34 перевели обратно в освободившийся от Блокады Ленинград и соединили с оставшейся частью института. Отец, добившийся за время войны больших научно-производственных успехов, был включен в состав возвращающихся. У нас сохранились тоненькие, на серой бумаге брошюрки последних лет войны, выпущенные коллективом новосибирской части института. В них – сообщения о научных результатах, выявленных в процессе текущей производственной работы на оборону. Научная мысль не погибала и в войну.
В Ленинграде у нас не было жилья и, где будет жить отец, не было известно. Мы оставались пока в Новосибирске. Мама и бабушка хотели бы вернуться в Киев. Но отец после победы в Сталинградской битве вступил в Коммунистическую партию, именуемую тогда в cокращении – ВКП (б), и подал заявление на фронт добровольцем в танковые части. Партком и дирекция отклонили просьбу: «Вы нужны здесь, вас заменить некем». И теперь от Ленинграда, как коммунист, он не имел право отказываться.
Уже к этому времени стало известно, что его отец, мой дедушка Соломон, живший в Виннице, был расстрелян немцами. Очевидцы, не евреи, рассказывали: «Он высокий, статный старик, шел под фашистским конвоем, гордо и спокойно». Мама отца, моя бабушка, уцелела – летом 41-го она уехала в Москву к дочери Ане (муж Ани Абрам Шапиро был кадровым военврачом и в это время служил под Москвой, потом прошёл всю войну, вернувшись полковником).
Погибшие родные, разоренные семьи, сожженные города и сёла! Святое чувство мести призывало русских и евреев, украинцев и белорусов к расплате с врагом… И отец был в их числе, он стремился воевать в танке, оборудованном аппаратурой, где был и его вклад.
***
Победа! Об этой долгожданной святой Победе мы узнали 8-го мая. Сообщили на завод из Москвы – подписана капитуляция. Мама, дядя Сеня и тётя Клава пришли вечером к нам домой, мама обняла меня и бабушку: «Победа!». И «праздник со слезами на глазах»!
А 9-го днём по главной улице «Красному проспекту» текла полноводная народная река. На заводе был первый выходной день. Шли все работники завода, вместе с мамой – и бабушка, и я. На центральной площади, площади Свердлова, была трибуна и, перед новосибирцами выступал секретарь обкома Кулагин. Он много сделал для завода, для новосибирцев, это он назвал политзаключённых товарищами. Победа была – одна на всех!
Великая Отечественная! Она осталась во мне навсегда, и с годами всё ярче, все сильнее память. Всё больше раскрывается тайн войны, узнаем о не отмеченных наградами героях – связистах, пехотинцах, лётчиках, о «забытых» генералах…
Победный год, 1 сентября, я – первоклассник. Было ещё голодно, в школе кормили завтраками: булочка, чай, бумажный пакетик с горошинками-леденцами. Я пил чай с булочкой, а кулёчек с леденцами прятал в ранец. Учительница Софья Анисимовна удивилась: «Почему ты так делаешь?» – «Это для мамы, она пьет чай вприглядку, а сахар отдаёт мне». Маму вызвали в школу. Она в испуге прибежала – «Что случилось?». И Софья Анисимовна маме: «Я хотела познакомиться с мамой, у которой такой заботливый сын».
В Новосибирске появились бригады пленных фашистов, работали на стройках. Были они и в нашем дворе. Ветхие шинели, изношенная обувь, поникшие, изнурённые судьбой, привыкшие к плотным германским пайкам, – голодные. Один из пленных – худой, бледный, измождённый – как-то подозвал меня. «Ганс», – указал он на себя, – снял с пальца невзрачное, позеленевшее кольцо, протянул мне. Говорил понятно по-русски: «Попроси у мамы хлеба». Мне было жалко его. Я взял кольцо, побежал к бабушке. Бабушка вздохнула, но отрезала ломоть от «карточной буханки». Кольцо не взяла: «Верни, мы не добиваем пленных!»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
*Халоймес – ерунда (идиш)
2
*Из воспоминаний Главкома Балтийского флота контр-адмирала В. Трибуца: «Флот располагал к началу войны стройной, основанной на марксистско-ленинской теории, системой подготовки и ведения операций»
3
*Согласно российской переписи населения: в 1897 г. в Одессе проживало: 49% – русских, 31% – евреев, 9% —украинцев.



