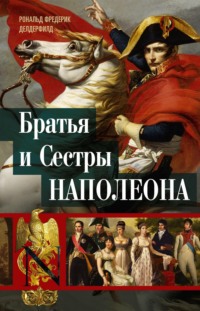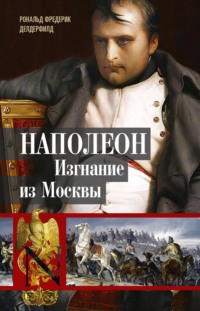Полная версия
Маршалы Наполеона. Исторические портреты
Таких было девять человек, и не пройдет и десяти лет, как имя каждого из них прогремит по всей Европе и Ближнему Востоку.
Франсуа Лефевр был высоким, грубоватым и вместе с тем добросердечным эльзасцем, которому к моменту штурма Бастилии исполнилось тридцать четыре года. Прослужив к тому времени пятнадцать лет в рядовых, он только что стал старшим сержантом. Сын мельника, который когда-то служил в гусарах, Франсуа вступил в гвардию в восемнадцать лет. По характеру он чем-то был схож с офицером Келлерманом. Открытый, словно вросший в землю, коренастый, мастер соленого казарменного юмора, он воплощал собой тип старшего сержанта, который может, например, отпустить дружелюбную шутку в адрес неуклюжего рекрута с тем, чтобы подбодрить новичка и заслужить смех рядовых. Унтер-офицеры типа Лефевра встречаются в любой армии, и их любят люди, за обучение которых им платят. Он не долго ломал себе голову, узнав о парижских событиях. Он просто обнял революцию своими огромными волосатыми ручищами и вскоре тоже начал подниматься по служебной лестнице.
Гренадер Доминик Периньон был такой же, как Лефевр, хотя и менее колоритной фигурой. Достигнув к моменту начала революции возраста тридцати пяти лет, он следил за парижскими событиями с самым пристальным интересом, поскольку предполагал добиться успехов на политической сцене. Отчаявшись добиться продвижения по армейской линии, он отдался всем сердцем политике, став депутатом Законодательного собрания, однако ему явно не хватало тонкости в схватках с адвокатами и коммерсантами, вследствие чего он снова вернулся в армию, день и ночь муштруя своих энтузиастов-рекрутов, чтобы придать им форму, которая позволила бы им штурмовать троны Европы.
С большим вниманием к текущим событиям приглядывался и еще один старший сержант, которого звали Шарль Бернадот, человек очень отличающийся и от ругателя Лефевра и от серьезного Периньона. Он был гасконцем, родился в Беарне и имел шведских предков. Высокий, красивый, с большим римским носом, он выглядел весьма импозантно и обладал высоким интеллектом. Никто и никогда, в сущности, не давал глубокой оценки личности Бернадота, хотя о его странном, причудливом характере существует множество противоречивых мнений. Большинство равных ему по званию ненавидело его, маршалы же не слишком его жаловали, считая честолюбцем, приспособленцем сомнительных дарований, человеком, который ожидает исхода событий, сидя, так сказать, на заборе. Порой он вел себя как истинный гасконец: горлопан, задавала и записной вояка. Иногда же он проявлял себя самым добропорядочным, самым спокойным и самым разумным офицером, который когда-либо застегивал на себе портупею. Похоже, он подстраивал свой характер под изменяющиеся обстоятельства или под натуру того человека, с которым в данный момент имел дело. Нет, он не был лгуном и никогда не был целиком вероломным. Действительно, ему каким-то образом всегда удавалось оправдывать свой образ действий, поступки, которые, соверши их кто-либо другой, выглядели бы из ряда вон выходящими. Возможно, он просто пытался управлять своей судьбой. Если так, то это ему блистательно удалось, поскольку на день падения Бастилии Бернадот был всего лишь старшим сержантом, а когда революционных криков уже давно не было слышно, он стал наследником шведского престола.
А во Франции, жаждущей броситься в неразбериху революционных событий, жил еще один профессиональный солдат, быть может, самый колоритный из них всех, и такой, который уже прошел большинство ступеней военной карьеры. Его звали Пьер Ожеро, и в молодости его наверняка можно было бы заметить в любой стычке, происходившей в округе. Он не был гасконцем, но вел себя как один из них. Ростом шести футов, он был силен, как бык, и неподатлив, как дубленая кожа. К тому же он был одним из лучших фехтовальщиков Европы. Сын парижского каменотеса, женившегося на немке – торговке фруктами, Ожеро вырос в самом бандитском округе Парижа и свои первые деньги зарабатывал в качестве лакея. Его уволили за соблазнение горничной. После этого он устроился официантом и был снова уволен – за соблазнение официантки. Не то чтобы он был неисправимым бабником – просто ему нравилось жить в условиях постоянной опасности. Вскоре он, видимо, начал думать, что найти такую жизнь ему будет легче, если он перестанет быть гражданским лицом. Примерно в восемнадцать лет Ожеро поступает в кавалерию и после неудачного начала, кажется, становится заметной фигурой, прославившей себя среди рядовых как превосходный фехтовальщик, быстро расправившийся с двумя известными дуэлянтами, которых он уложил наповал. Однако вскоре после этого у него случилась серьезная неприятность. Какой-то молодой офицер ударил его тростью; офицер даже не успел вызвать свой эскорт, как шпага Ожеро пронзила его насквозь. Ожеро пришлось бежать в Швейцарию, где он некоторое время зарабатывал на жизнь, торгуя часами. А затем он перевозит свой ранец в Константинополь и даже еще дальше – в Одессу, где, к его облегчению, шла, по его мнению, первоклассная война. Там он вступает в русскую армию в чине сержанта. Однако однажды он приканчивает русского солдата, и ему приходится удирать в Пруссию, где он вступает в прославленную армию Фридриха Великого. Здесь он мог бы сделать себе карьеру, однако в Пруссии существовало сильное предубеждение против иностранцев, и поэтому его продвижению по службе чинили препятствия, так что в конце концов ему пришлось дезертировать из армии и бежать на запад.
Дезертирство из прусской армии было чревато большими опасностями. Прусским крестьянам, отлавливавшим дезертиров, выплачивалось за это приличное вознаграждение; дезертиров же расстреливали. Однако такого рода риск едва ли мог остановить шестифутового детину, на счету которого уже были два знаменитых дуэлянта, один офицер гвардии короля Франции и какое-то количество турок, убитых во время русской кампании. Ожеро собрал маленькую армию сорвиголов и пробился с ними к границе. Таким образом, пруссаки потеряли одного из лучших солдат, которых они только могли заполучить, а заодно и еще около сорока отличных рубак.
Однако на этом приключения Ожеро только начинались. Несмотря на свое мощное телосложение, он был великолепным танцором и некоторое время добывал себе в Саксонии пропитание уроками танцев. Можно полагать, что он научился хорошо владеть ногами, еще будучи фехтовальщиком-дуэлянтом. Так или иначе, он пользовался у дам большим успехом, пока уроки танцев не прискучили ему и он не переехал в Афины, где серьезно влюбился в некую прелестную гречанку, вместе с которой они решили перебраться во Францию. Ожеро прослышал, что на его родине происходит отличная драчка, и ему не хотелось упустить возможность поучаствовать в ней. Однако на пути во Францию его подстерегала беда. Путешествуя на лодке, он и его жена попадают в Лиссабон, где его принимают за потенциального революционера и передают в руки всесильной инквизиции. Это приключение могло бы стать для него последним, но судьба снова улыбнулась ему. Очаровательная супруга Ожеро уговорила отважного капитана одного французского торгового судна помочь ее мужу. Тот, со своей стороны, заявил португальским властям, что, если они не передадут ему пленника немедленно, он лично объявит войну их провинции от имени Франции, и с триумфом вернулся во Францию вместе с будущим маршалом. Слухи оправдались. Во Франции продолжали происходить тяжелые бои, и Ожеро с радостью бросился в один из них, став в итоге дивизионным генералом, причем практически сразу.
Пьер Ожеро пробовал себя и в некоторых гражданских специальностях. Интересно, что во Франции тогда жил еще один молодой солдат, интересы которого также были направлены на одну из таких специальностей, точнее, на профессию пекаря. Никола Жан де Дье Сульт происходил из почтенной крестьянской семьи, жившей в деревне Сен-Аман-де-Бастид близ Альби. Еще юношей он поступил в пехоту и дослужился до звания сержанта, но непосредственно перед революцией у него неожиданно появилось горячее желание стать деревенским пекарем. Неясно, было ли это устремление вызвано недостатком перспектив на продвижение в королевской армии или же следствием детской радости оттого, что, раскатывая тесто, ему можно придавать самые причудливые формы, однако настоятельная необходимость смены профессии была налицо. В последующие годы Никола будет проявлять довольно странные амбиции и пускаться во все тяжкие, чтобы их удовлетворить, но на сей раз он внял возражениям со стороны семьи и вернулся в армию. В тот момент, когда открылись перспективы для многообещающих молодых людей, Сульт быстро вырвался вперед, и вскоре его начали считать превосходным тактиком. Он был хладнокровным, рассудительным человеком, вполне способным контролировать свое настроение. От природы у него был хороший вкус; со временем ему стали нравиться красивые вещи, мебель, прекрасные картины, драгоценности и в особенности короны, если их можно будет приобрести в обмен на какие-нибудь пустяки. Но все это – еще далеко впереди. В первые же дни революции он был озабочен тем, как обеспечить хорошее о себе мнение со стороны своих начальников.
Бернадота, Ожеро, Сульта и даже тугодума Лефевра и методичного Периньона до некоторой степени подстегивали их личные амбиции, а вот еще один рядовой, сын юриста из Безансона, носивший впечатляющее имя Бон Адриен Жанно де Монси, вообще не имел никаких личных амбиций, за исключением, пожалуй, стремления к тому, чтобы ему было позволено спокойно служить в армии, одинаково ровно относясь и к офицерам и к рядовым.
Из всех наполеоновских маршалов Монси, видимо, был единственным, кто мог производить на императора впечатление величием своей души. Он был красивым, скромным, спокойным человеком, который, кстати, вполне радовался своей военной карьере как альтернативе изучению права. Еще юнцом он трижды убегал из дома, чтобы вступить в армию; его дважды приводили домой и засаживали за учебники. После третьей попытки борьба была прекращена и ему было разрешено остаться служить в жандармерии. Когда разразилась революция, демократичность Монси склонила его на сторону республиканцев, и он начал быстро идти вверх по служебной лестнице. Хотя будущее сулило ему здоровье, почести, герцогский титул и несколько неумело проведенных кампаний, потомство будет вспоминать его не за это, а за одно-единственное письмо, о котором будет рассказано в конце этой книги. Для понимания его человеческой сущности это письмо даст больше, чем целая биография.
Любопытно, сколько же людей, впоследствии вошедших в окружение Наполеона, убегали мальчишками из дома, чтобы попасть в армию, и сколько же времени, хлопот и средств затратили их раздосадованные родители, пытаясь вернуть их к нормальной гражданской жизни. Отец Монси, юрист по профессии, выкупал сына дважды. Родители Никола Удино пытались решить эту проблему иначе, играя на добрых чувствах сына к родителям и рассказывая ему о том, сколь многое он оставит дома, так убедительно, что тот, правда, неохотно, но все-таки отказался от службы в пехоте Медока[2] и вернулся домой, чтобы начать собственное дело в Нанси. От мучительной скуки его спасла революция. В родном городке Удино, Бар-ле-Дюке, где его отец был весьма уважаемым пивоваром, а дядя – мэром, новости, пришедшие из Парижа, побудили местный гарнизон выступить с декларацией в пользу революции. В гарнизоне среди офицеров или унтер-офицерского состава, вероятно, были люди, охотно занявшие бы должность начальника гарнизона, однако получить ее у них не было никаких шансов. В самый день падения Бастилии начальником мятежного гарнизона был избран рядовой Никола-Шарль Удино, двадцати двух лет от роду. Через тринадцать дней службы он вполне оправдал доверие своих друзей, в одиночку ворвавшись на коне в самую гущу толпы и остановив вспышку насилия, которая привела бы к самосуду над местным богатеем. Из этого инцидента он вышел невредимым – случай для Удино совершенно невероятный. Ведь за двадцать пять лет службы в войсках сын пивовара был ранен тридцать четыре раза.
Следует представить еще одного рядового из числа находящихся на действительной службе – самого знаменитого наполеоновского маршала, который был столь же импульсивен, как Ожеро, столь же упорен, как Даву, и храбрее, чем любой из когда-либо живших на земле полководцев.
На день падения Бастилии Мишелю Нею исполнилось двадцать лет, и за его спиной было уже два года службы в гусарах. Как только ему стало понятно, что ни рождение, ни высокородные предки, ни наличие влиятельных связей уже не являются критериями при продвижении по службе, он решил целиком и полностью посвятить свою жизнь армии. Однако, в отличие от многих, он не придавал первостепенного значения размерам оклада, привилегиям или же титулам, поместьям, знакам отличия. Все эти вещи не значили для него ровно ничего, хотя он был беден и горд, как Люцифер. Он мыслил только о славе, точнее, о той ее разновидности, которую уже не в состоянии была дать современная ему война, – о славе, которой награждает себя мальчик в собственных снах, сокрытых даже от его ближайших друзей. Ней, вероятно, был бы согласен всю жизнь прожить на жалованье рядового, лишь бы его прославляли как человека, выигравшего для Франции не одну битву, а общество знало бы как военачальника, идущего в бой на десять шагов впереди самого быстрого из его солдат. Бесстрашный, горячий, резко реагирующий на обиду, но столь же быстро прощающий все, кроме оскорблений, задевающих честь, Мишель Ней – это квинтэссенция всего того, что составляет легенду о Наполеоне. Когда через двадцать шесть лет он умирал одним декабрьским утром спиной к стене, с ним умирал дух Империи, и люди, которые, звеня саблями, пролетели пол-Европы вслед за одним склонным к полноте неутомимым корсиканским авантюристом, переходили из жизни в сагу, подобную тем, которые менестрели распевали в застланных камышом залах тысячу лет назад.
Из всех рядовых республиканской армии, которым судьба предназначила высокий ранг маршала, Ней был, видимо, самым скромным. Иоахим Мюрат, девятый и последний из рядовых, мог бы сравниться храбростью с Неем, но даже самый горячий его поклонник никогда не назвал бы Мюрата, который в плане карьеры превзошел всех своих сотоварищей, человеком скромным, способным оставаться в тени.
Сын трактирщика из Кагора, то есть из Гаскони, Мюрат обладал всеми характерными особенностями гасконца и с возрастом не отделался ни от одной из них, даже став королем. Юношей он слыл дерзким, тщеславным, отважным и крайне ненадежным. Уже став мужчиной, которому было суждено войти в историю в качестве самого знаменитого со времен Руперта Рейнского командира кавалерии как рода войск, он сохранил все эти качества до самой смерти.
С детства обреченный стать клириком, он тем не менее поломал планы своего отца, сбежав из дома в возрасте двадцати лет и записавшись в конные егеря. Это случилось за два года до революции. Когда на поле боя высылали кавалерию, Мюрат мчался вперед и рубил саблей с таким азартом, что его сотоварищи-егеря пришли к выводу, что не больше чем через год его или уже не будет в живых, или же он станет командовать полком. В облике этого красивого молодого человека было нечто такое, что производило впечатление на каждого. Его способ самовыражения был настолько самобытен, что в молодости его даже считали фигляром, однако, когда речь заходила о том, чтобы укротить строптивую лошадь или наброситься на выстроенное к бою каре пехоты, в его облике ничего смехотворного уже не находили. Над ним можно было смеяться и называть помесью павлина и клоуна, но не восхищаться им в бою было просто нельзя. Сидя в седле так, как это дано лишь немногим мужчинам, с развевающимися угольно-черными волосами, он выглядел и вел себя так, как будто только что вылетел сюда галопом со страниц какого-нибудь рыцарского романа XIV века. В течение очень долгого времени его театральность – несмотря на привлекательную внешность и храбрость – удерживала его на вторых ролях, но когда наконец пришел его час, он взорвался подобно фейерверку. Д’Артаньян смог ввести слово «гасконада» в словарь французского языка, Мюрат же закрепил его там навсегда.
Теперь осталось рассказать о некоторых гражданских лицах и особо – еще об одном человеке. Когда парижская толпа ворвалась во внутренний двор Бастилии, восемь будущих маршалов Наполеона еще не носили военной формы. Из этих восьми только двое начали марш под барабанный бой. Далеко на Ривьере Андре Массена, тридцати одного года от роду, бывший юнга и бывший старший сержант роты Королевского итальянского полка, как раз намеревался в очередной раз выразить свое отвращение по отношению к системе, когда в город прискакали курьеры с последними новостями из Парижа. Четырнадцать напряженных лет, проведенных им на солдатской службе, этот невысокий, гениально расчетливый человек упорно копил деньги, и теперь средств у него было более чем достаточно. Новости о Бастилии не помешали ему расплатиться с долгами, и теперь он обратился к занятию, обещавшему несколько большие материальные выгоды. Андре Массена любил две, и только две вещи: деньги и красивых женщин – и именно в этой последовательности. Простой рядовой, зачастую не имевший ни гроша в кармане, он, конечно, страдал от отсутствия и тех и других, а теперь, как он предполагал, пришло время произвести некоторые перемены в своей судьбе. Он начал торговать сушеными фруктами в Антибе, однако его магазинчик был только прикрытием. Его подлинным, основным занятием была контрабанда через франко-итальянскую границу.
С темной кожей, стройный и по итальянским стандартам привлекательный, Массена, занимаясь сбытом контрабандных товаров, вскоре начал наживать состояние. И самым главным умением в его новой карьере было его потрясающее знание человеческой природы. Оглядываясь на этот период жизни Массена, его друзья могли бы сказать, что он был не только в состоянии читать мысли своих клиентов, но и предугадывать контрмеры со стороны сборщиков налогов. Таможенники систематически оказывались с носом, и их шансы изловить хитроумного торговца фруктами были примерно такими же, как у зайца – поймать лису, выскочив из засады. Здесь, в густых лесах Савойи, бывший юнга провел три небезвыгодных для него года. Затем, опять-таки руководствуясь не вполне бескорыстными соображениями, он снова поступил на армейскую службу, но отнюдь не в чине старшего сержанта. Времена, когда столь блистательного человека можно было заставить тянуться в струнку перед аристократом-кадетом, давно миновали. Через три года службы контрабандист Массена, которого кое-кто называл «евреем Манассией»[3], имел в банке приличные деньги и командовал дивизией.
Характеры тех двадцати шести генералов, которым было суждено стать маршалами Первой империи, иногда странным образом контрастировали друг с другом, но не было более резкого контраста, чем различия в натурах двух этих уже служивших в армии военных, рискнувших вновь вступить в ее ряды во время революции.
Жан Баптист Журдан был сыном врача из Лиможа, поступившим в армию в возрасте шестнадцати лет и также служившим в экспедиционном корпусе, пересекшем Атлантический океан, чтобы оказать помощь американским колонистам. После этой кампании майор Бертье получил повышение по службе, а Журдан, участвовавший в экспедиции в качестве вольнонаемного, вернувшись домой, получил в виде вознаграждения пригоршню франков, новую пару башмаков и документы об увольнении. Однако этот философски настроенный молодой человек не стал жаловаться на судьбу. Он просто влюбился в хорошенькую маленькую модистку, женился на ней и начал торговать мануфактурой.
Это, должно быть, был счастливый и взаимовыгодный брак. Мадам Журдан присматривала за лавкой, а сам Журдан бродил по дорогам от города к городу с багажом торговца вразнос за плечами. Глядя за тем, как он тратит время в переходах от ярмарки к ярмарке, рассуждая со своими провинциальными клиентами и о торговле и о политике, едва ли кто-нибудь мог предположить, что совсем скоро он станет одним из самых знаменитых полководцев Франции. Тем не менее дела обстояли именно так. Когда из Парижа пришли вести о падении Бастилии, Жан Журдан начал все меньше и меньше думать о рулонах ткани и разноцветных лентах и все больше и больше – о судьбах Франции. И наконец жажда принять участие во всей этой жуткой сумятице стала для него настолько нестерпимой, что он закрыл лавку, поцеловал на прощанье женушку и отправился на сборный пункт волонтеров департамента Верхняя Вьенна, неся на плечах поклажу, несколько отличающуюся от привычной. Через три года он станет дивизионным генералом.
Если Массена снова поступил в армию исходя из соображений личной выгоды, то Журдан сделал это из патриотических побуждений. Массена должен был считать Журдана дураком, а Журдан Массена – подлецом. Однако оба, не осознавая этого, решали как свои личные задачи, так и проблемы, относящиеся к судьбам Франции. В тот же самый исторический момент еще шесть гражданских лиц отправились в путь под грохот одних и тех же барабанов. Высоко над левым берегом Сены, там, где уличные ораторы состязались в провоцировании всякого сброда на волнения и где каждый день происходили какие-то беспорядки, в одном из домов за столом сидел и писал высокий, хорошо сложенный мужчина. У него был облик человека, который привык вести здоровую жизнь, много бывал на свежем воздухе, но теперь у него стало слишком мало времени для физических упражнений. День за днем, часто даже до глубокой ночи Гильом-Мари Брюн, двадцатишестилетний сын юриста из департамента Коррез, выжимал из себя эпические стихи и высокопарные эссе. И день за днем на половик у его двери сыпались отвергнутые рукописи, пока молодой человек не начал наконец скрежетать зубами от ярости и отчаяния.
В его голове не возникало ни малейшего сомнения в том, что он – литературный гений, но невозможность убедить в этом других уже начала его изматывать. Его друг Дантон посочувствовал ему и предположил, что просто-напросто устарели темы, которые предлагает читателю Брюн. Быть может, мудрее и злободневнее писать не о любви, а о войне? Потому что теперь уже стало ясно, что монархи Европы не собираются спокойно оставаться в стороне и смотреть, как один из них посажен под стражу несколькими сотнями молодых и болтливых адвокатов, которые уже успели смастерить удивительный документ под названием «Конституция».
Совет Дантона Брюн воспринял вполне серьезно, наконец разродившись брошюрой по вопросам военной тактики. Восхитившись собственным творением, он показал его некоей актрисе, которая прочла его без каких-либо комментариев. Когда же автор поинтересовался ее мнением, она ответила довольно жестко: «Ах, Брюн! Если бы сражались перьями, то вы стали бы знаменитым генералом!»
В мире полным-полно серьезных писателей, большинство которых совершенно нечувствительны к такого рода уколам, но кожа Брюна была тонкой, слишком тонкой для того, чтобы он мог быть литератором. Трясясь от ярости, он предстал перед теперь уже широко известным Дантоном и потребовал должности в одной из волонтерских армий. Дантон согласился, и к утру поэт уже стал майором. Первое поручение Брюна состояло в том, чтобы сопровождать группу энтузиастов-республиканцев на юго-запад, и бывший поэт с радостью поехал его выполнять. Откуда же ему было знать, что он вступил на дорогу славы и вместе с тем на дорогу, на которой он в конце концов найдет гибель под ногами разъяренной толпы? Да и если бы знал, разве это могло бы испугать мужчину в двадцать с небольшим лет?
Приблизительно в то же время, когда Брюн в отчаянии отказался от создания еще одной эпической поэмы и обратил свой талант на написание военных учебников, очень огорчительной нашел жизнь еще один потенциальный поэт. Его звали Гувьон Сен-Сир. Тогда ему было двадцать пять лет. Сын дубильщика из города Туль, он, как оказалось, стал самым эксцентричным маршалом из всех. За свою короткую жизнь он успел поучиться инженерному делу, побывать преподавателем черчения и актером. Во многих отношениях он, видимо, оставался актером на протяжении всей своей жизни. Он был привлекателен внешне, обязателен в любом деле, за какое бы он ни брался, и совершенно непроницаем. В восемнадцать лет он закончил свое инженерное образование и отправился в Рим изучать искусство, но, подобно многим артистичным натурам, вскоре пал жертвой «вируса сцены» и, бросив свои занятия, попробовал себя в качестве актера. Правда, руководство театра заявило, что ему никогда актером не стать, потому что он слишком для этого робок. Однако те, кто знал Сен-Сира по общим компаниям, наверняка были бы изумлены, сочтя это заявление слишком слабым предлогом, чтобы избавиться от зачарованного блеском сцены юноши. Он вернулся в Париж как раз в революционное время, и никто не знает, при каких обстоятельствах он завербовался в армию. Благодаря своим блистательным способностям чертежника и исключительной наблюдательности он легко сумел выделиться; кроме того, в армейской жизни он находил выход для своих творческих способностей, которые мучили его на протяжении всей его юности.
В возрасте девятнадцати с небольшим лет, в тот самый день, когда комендант Бастилии был повешен на фонаре, один молодой и веселый гасконец все еще продолжал изучать ремесло красильщика в своем доме в Лектуре. Все знакомые в один голос разъясняли Жану Ланну, что красильщик из него не выйдет никогда и ему следует приискать для себя более подходящую профессию. Он был стройным юношей небольшого роста, но физически крепким, выносливым. Обычно он мог легко рассориться и так же легко помириться со своими родителями, нанимателями и местными властями, но всем жителям Лектура этот шалопай импонировал, и каждый был рад, если тот забегал к нему поболтать или пропустить стаканчик бордо. О том, что случилось в Париже, в городе только шептались, но и этого было достаточно для того, чтобы юный Ланн, хлопнув дверью красильного барака, отправился вступать в Пиренейскую волонтерскую армию. Через год благодаря его уму, храбрости и, вероятно, значительному запасу гасконских ругательств перед ним открылась возможность быстрого продвижения по службе, но сам Ланн расхохотался бы до смерти, если бы узнал, что сейчас он закладывает основы репутации, принесшей ему пот de guerre[4] Роланд французской армии.