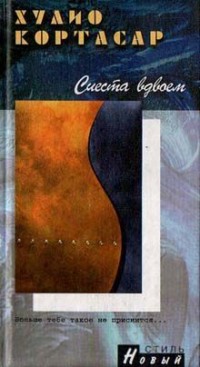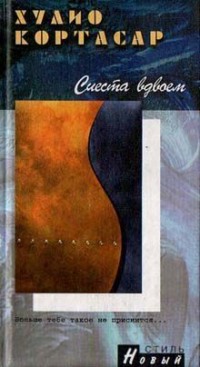Полная версия
Игра в классики
– Начни с себя, – сказал Перико, оторвавшись от словаря. – Приехал сюда по примеру соотечественников, у которых принято отправляться в Париж, как говорится, за воспитанием чувств. В Испании этому учатся в обычных борделях или на корриде, черт возьми.
– Или у графини Пардо Басан, – сказал Оливейра, еще раз зевнув. – Впрочем, ты прав, парень. Мне бы не здесь сидеть, а играть в игры с Тревелером. Но ты, конечно, не знаешь, что это такое. Ничего-то вы не знаете. А о чем, в таком случае, говорить?
(—115)
14
Он встал из своего угла и, прежде чем шагнуть, осмотрел пол, как будто необходимо было хорошенько выбрать, куда поставить ногу, потом с такими же предосторожностями ступил еще раз, подтянул другую ногу и в двух метрах от Рональда с Бэпс встал как вкопанный.
– Дождь, – сказал Вонг, пальцем указывая на окно мансарды.
Неторопливо разогнав рукой облако дыма, Оливейра поглядел на него дружески и с удовлетворением.
– Хорошо еще, что высоко, а то некоторые селятся на уровне земли и ничего, кроме башмаков и коленок, не видят. Где ваш стакан?
– Вот он, – сказал Вонг.
Оказалось, что стакан рядом и полон до краев. Они пили, смакуя, а Рональд выдал мм Джона Колтрейна, от которого Перико передернуло. А потом – Сидни Беше, времен Парижа сладких меренг, должно быть, в пику испанским пристрастиям некоторых.
– Это правда, что вы работаете над книгой о пытках?
– О, это не совсем так, – сказал Вонг.
– А как?
– В Китае иная концепция искусства.
– Я знаю, мы все читали китайца Мирбо. Правда, что у вас есть фотографии пыток, сделанные в Пекине в тысяча девятьсот двадцать каком-то году?
– О нет, – сказал Вонг, улыбаясь. – Они очень мутные, не стоит даже показывать.
– Правда ли, что самую страшную вы всегда носите с собой в бумажнике?
– О нет, – сказал Вонг.
– И что показывали ее как-то в кафе женщинам?
– Они так настаивали, – сказал Вонг. – Беда в том, что они ничего не поняли.
– Ну-ка, – сказал Оливейра, протягивая руку. Вонг, улыбаясь, уставился на его руку. Оливейра был слишком пьян, чтобы настаивать. Он отхлебнул водки и переменил позу. На ладонь ему лег сложенный вчетверо лист бумаги. На месте Вонга в дыму он увидел только улыбку, улыбку Чеширского кота, и что-то вроде поклона. Столб был, наверное, метров двух высотой, но столбов было восемь, если только это не был тот же самый, восьмикратно повторенный во всех четырех сериях, по два кадра в каждой, слева направо и сверху вниз; столб был везде один и тот же, только в различных ракурсах, и разными были приговоренные, привязанные к столбу, лица ассистентов (виднелась даже одна женщина слева) и поза палача, который – из любезности к фотографировавшему – всегда отступал немного влево; у этого американского или датского этнолога была твердая рука, но «кодак» выпуска двадцатого года и вспышка довольно плохие, а потому, начиная со второй фотографии, там, где ножом отрубили правое ухо и прекрасно было видно обнаженное тело, все остальные – из-за крови, покрывавшей тело, из-за дурного качества пленки иди проявителя – разочаровывали, особенно начиная с четвертого кадра, где приговоренный выглядел темной бесформенной массой, из которой выступал открытый рот и одна очень белая рука; последние три кадра практически были одинаковыми, если не считать поз палача: на шестой он склонился над сумкой с ножами, выбирая подходящий (но, должно быть, хитрил, потому что, если бы они начинали с глубоких порезов…), и если вглядеться хорошенько, то можно было заметить, что жертва была еще жива, так как одна нога У нее была вывернута наружу, несмотря на то что ноги привязывались веревкой, а голова откинута назад и рот, как всегда, открыт; на пол китайцы со свойственной им заботливостью, видимо, насыпали толстый слой опилок, потому что овальная лужа почти совершенной формы вокруг столба не увеличивалась от фотографии к фотографии. «Седьмая – критическая», – голос Вонга шел откуда-то издалека, из-за водки и табачного дыма; надо было вглядеться внимательно, потому что кровь сочилась струйками из двух медальонов на груди – глубоко вырезанных сосков (операция была проделана между вторым и третьим кадром), но на седьмой фотографии как раз видна была ножевая рана: линия ног, чуть раздвинутых, слегка изменилась, однако стоило приблизить фотографию к лицу, как становилось ясно, что изменилась не линия ног, а линия паха: вместо неясного пятна, различимого на первом кадре, теперь видна была кровоточащая ямка, и струйки крови текли по ногам. У Вонга были все основания пренебрегать восьмым кадром, потому что на нем приговоренный, всякому ясно, не был живым – у живого голова таким образом не падает набок. «По моим сведениям, вся операция продолжалась полтора часа», – церемонно заметил Вонг. Лист снова был сложен вчетверо, и черный кожаный бумажник раскрылся, как кайманья пасть, чтобы проглотить его вместе с клубами дыма. «Разумеется, сегодня Пекин уже не тот. Сожалею, что показал вам такую примитивную вещь, но остальные документы нельзя носить в кармане – они требуют пояснений, непосвященным не понять…» Голос шел из такого дальнего далека, что казался продолжением виденных образов, как будто толкование давал церемонный ученый муж. И наконец, а может, наоборот, как начало, Биг Билл Брунзи принялся взывать: «See, see, rider» [35], и, как всегда, самые непримиримые элементы стали сливаться в один гротескный коллаж, но их еще требовалось подогнать друг к другу при помощи водки и кантовских категорий, этих транквилизаторов на все случаи слишком грубого вторжения реальной действительности. О, почти всегда так: закрыть глаза и вернуться назад, в ватный мир какой-нибудь другой ночи, тщательно выбрав ее из раскрытой колоды, «See, see, rider, – пел Биг Билл, еще один мертвец – see what you have done» [36].
(—114)
15
И ему совершенно естественно вспомнилась ночь на канале Сен-Мартен и предложение, которое ему сделали (за тысячу франков), – посмотреть фильм на дому у одного швейцарского врача. Ничего особенного, просто какой-то кинооператор из стран оси ухитрился заснять во всех подробностях повешение. Двухчастевый фильм, да, немой. Но снят – потрясающе, качество гарантируется. Заплатить можно после просмотра.
Минуты, которая была необходима, чтобы решиться и сказать «нет», а затем отправиться ко всем чертям вместе с гаитянской негритянкой, подружкой подружки швейцарского врача, ему хватило, чтобы вообразить сцену повешения и встать – а как же иначе? – на сторону жертвы. Кем бы он ни был, тот, кого вешали, слова тут излишни, но если он знал (а тонкость, возможно, как раз и состояла в том, чтобы дать ему это понять), – если он знал, что камера будет регистрировать все, до мельчайших деталей, его гримасы и судороги во имя того, чтобы доставить удовольствие дилетантам из будущего… «Что бы со мной ни случилось, никогда я не буду равнодушным, как Этьен, – подумал Оливейра. – Дело в том, что меня одолевает неслыханная мысль: человек создан совсем ради другого. А значит… До чего же ничтожны орудия, с помощью которых приходится ему искать выход». Хуже всего, что он разглядывал фотографии Вонга спокойно потому, что пытали на них – не его отца, к тому же производилась эта пекинская операция сорок лет назад.
– Подумать только, – обратился Оливейра к Бэпс, которая вернулась к нему, успев поссориться с Рональдом, желавшим во что бы то ни стало послушать Ма Рэйни, вместо Фатса Уоллера, – уму непостижимо, какими мы можем быть мерзавцами. О чем думал Христос, лежа в постели перед сном, а? Одно мгновение – и улыбающийся человеческий рот может превратиться в мохнатого паука и куснуть.
– О, – сказала Бэпс. – Delirium tremens [37], что ли. Не ко сну будь сказано.
– Все поверхностно, детка, все воспринимается на уровне э-пи-дер-ми-са. Интересно: мальчишкой, дома, я все время цапался со старшими – с бабкой, с сестрой, со всем этим генеалогическим старьем, и знаешь из-за чего? Из-за разных глупостей, но в том числе и потому, что для женщин любая смерть в их квартале или, как они говорят, любая кончина всегда гораздо важнее, чем события на фронте, чем землетрясение, чем убийство десяти тысяч человек и тому подобное. Иногда ведешь себя, как кретин, такой кретин, что и вообразить трудно, Бэпс, ты можешь прочесть Платона от корки до корки, сочинения отцов церкви и классиков, всех до единого, знать все, что следует знать сверх всего познаваемого, и тут как раз доходишь до невероятного кретинизма: начинаешь цепляться к своей собственной неграмотной матери и злиться, что бедная женщина слишком переживает смерть какого-то несчастного русского, жившего на соседнем углу, или чьей-то двоюродной племянницы. А ты донимаешь ее разговорами о землетрясении в Баб-эль-Мандебе или о наступлении в районе Вардар-Инга и хочешь, чтобы бедняжка страдала по поводу ликвидации трех родов иранского войска, что ей представляется чистой абстракцией…
– Take it easy, – сказала Бэпс. – Have a drink, sonny, don’t be such a murder to me [38].
– А по сути, дело все в том же: глаза не видят, сердце не болит… Какая необходимость, скажи, пожалуйста, проедать старухам плешь нашим пуританским недоумочным вонючим кретинизмом? Ну и гадко у меня сегодня на душе, дружище. Пойду-ка я лучше домой.
Но не так-то просто оказалось оторваться от теплого эскимосского ковра и от созерцания – издали и почти равнодушно – того, как Грегоровиус вовсю интервьюировал чувства Маги. Оторвавшись наконец, он почувствовал себя так, словно ощипал старого полудохлого петуха, который отбивался, как настоящий мужчина, каким некогда был, и облегченно вздохнул, узнав тему «Blue Interlude», – эта пластинка была у него когда-то в Буэнос-Айресе. Теперь он уже не помнил состава оркестра, знал только, что в нем играли Бенни Картер и, кажется, Чью Берри, а когда началось труднейшее своей простотой соло Тедди Уилсона, решил, что, пожалуй, лучше остаться до конца действа. Вонг говорил, что на улице льет, весь день лило. А это, наверное, Чью Берри, если только не сам Хоукинс, нет, это не Хоукинс. «Поразительно, как все мы оскудеваем, – подумал Оливейра, глядя на Магу, которая смотрела на Грегоровиуса, а тот – куда-то в пространство. – Кончим тем, что отправимся в Bibliothèque Mazarine [39] составлять библиографию о мандрагоре, об ожерельях банту или об истории ножниц для стрижки ногтей». Подумать только, как велик выбор подобных пустячков и какие огромные перспективы открываются для исследования и тщательного изучения. Одна только история ножниц для стрижки ногтей – две тысячи книг надо прочесть для полной уверенности в том, что до 1675 года этот предмет не упоминался. А потом в какой-нибудь Магунсии кто-нибудь напечатает оттиск с изображением женщины, обрезающей себе ноготь. Не ножницами, но чем-то на них смахивающими. В XVIII веке некий Филипп Мак-Кинни запатентовал в Балтиморе первые ножницы с пружинкой: ура, проблема решена, можно теперь стричь ногти на ногах, невероятно толстые и быстро отрастающие, – жми до отказа, ножницы потом сами раскроются автоматически. Пятьсот картотечных карточек с названиями трудов, целый год работы. А если заняться вопросом изобретения винта или употреблением глагола «gond» в литературе пали VIII века… Любое, за что ни возьмись, будет интересно, лишь бы не гадать, о чем там разговаривают Мага с Грегоровиусом. Городи, что угодно и из чего вздумается, лишь бы спрятаться за этой баррикадой, любое годится в дело – и Бенни Картер, и маникюрные ножницы, и глагол «gond» – еще стакан, – церемония сажания на кол, изысканнейшим образом осуществленная палачом, не опустившим ни малейшей подробности, а не хочешь – затеряйся в блюзах Джека Дюпре – вот баррикада так баррикада, лучше не сыскать, потому что (пластинка страшно зашипела):
Say goodbye, goodbye to whiskyLordy, so long to gin,Say goodbye, goodbye to whiskyLordy, so long to gin.I just want my reefers,I just want to feel high again [40].Значит, наверняка Рональд вернется сейчас к Биг Биллу Брунзи под действием ассоциаций, которые хорошо знал и уважал, и Биг Билл расскажет им еще об одной баррикаде, расскажет тем самым тоном, каким, должно быть, Мага теперь рассказывает Грегоровиусу о своих детских годах в Монтевидео, расскажет без горечи, matter of fact [41].
They said if you white, you all right,If you brown, stick aroun,But as you black,Mm, mm, brother, get back, get back, get back [42].– Тут ничего не поделаешь, воспоминания меняют в прошлом только самое неинтересное.
– Да, ничего не поделаешь, – сказала Мага.
– Я попросил рассказать о Монтевидео потому, что вы для меня – как карточная королева: вся тут, но вся плоская, без объема. Поймите меня правильно.
– А Монтевидео даст объем… Чепуха все это, чепуха, и только. Что вы, например, называете старыми временами, прошлым? Для меня, например, все, что было в прошлом, случилось как вчера, как вчера поздно вечером.
– Уже лучше, – сказал Грегоровиус. – Теперь вы королева, но уже не карточная.
– В общем, для меня все это – недавнее. Оно – далеко, очень далеко, но было недавно. Мясные лавчонки на площади Независимости, ты их помнишь, Орасио, кругом мясо жарят на решетке, и от этого площадь так грустно выглядит, наверняка накануне случилось убийство и мальчишки у дверей лавчонок выкрикивают газетные новости.
– И лотерейные выигрыши, – сказал Орасио.
– Зверское убийство в Сальто, политика, футбол…
– Рейсовый пароход, рюмочка рома анкап. Словом, местный колорит, черт подери.
– Должно быть, очень экзотично, – сказал Грегоровиус и подвинулся так, чтобы заслонить Оливейру и остаться чуть более наедине с Магой, которая глядела на свечи, тихонько отстукивая ногой внутренний ритм.
– В Монтевидео в ту пору не было времени, – сказала Мага. – Мы жили у самой реки в огромном доме с двором. Мне там всегда было тринадцать лет, я хорошо помню. Синее небо, тринадцать лет и косоглазая учительница из пятого класса. Однажды я влюбилась в белобрысого мальчишку, который продавал на площади газеты. Он кричал «гзе-е-ета», а у меня вот тут отдавалось эхом… Ходил в длинных штанах, хотя было ему лет двенадцать, не больше. Мой папа не работал и целыми вечерами читал в патио, пил мате. А мама умерла, когда мне было всего пять лет, я росла у теток, они потом уехали в деревню. А тогда мне было тринадцать лет, и мы с папой остались вдвоем. Дом был многонаселенный. В нем жили еще итальянец, две старухи и негр с женой, они всегда по ночам ссорились, а потом пели под гитару. У негра были рыжие глаза, похожие на влажный рот. Мне они всегда были немножко противны, и я старалась уходить играть на улицу. Но отец, если видел меня на улице, всегда загонял в дом и наказывал. Один раз, когда он меня порол, я заметила, что негр подглядывал в приоткрытую дверь. Я даже не сразу поняла, подумала сначала, что он чешет ногу, что-то там делает рукой… А отец был слишком занят – лупил меня ремнем. Странно, оказывается, можно совершенно неожиданно потерять невинность и даже не узнать, что вступил в другую жизнь. В ту ночь на кухне негритянка с негром пели допоздна, а я сидела в комнате; днем я так наплакалась, что теперь мучила жажда, а выходить из комнаты не хотелось. Папа сидел у дверей и пил мате. Жара была страшная, вам в ваших холодных странах не понять, какая бывает жара. Влажная жара – вот что самое страшное, из-за того, что река близко; но, говорят, в Буэнос-Айресе еще хуже, Орасио говорит, гораздо хуже, не знаю, может быть. А в ту ночь одежда прилипала к телу, и все без конца пили мате, я раза два или три выходила во двор попить воды из-под крана, туда, где росли герани. Мне казалось, что в том кране вода прохладнее. На небе не было ни звездочки, герань пахла резко, это очень красивые, броские цветы, вам, наверное, случалось гладить листик герани. В других комнатах уже погасили свет, а папа ушел в лавку к одноглазому Рамосу, и я внесла в дом скамеечку, мате и пустой котелок – папа всегда оставлял их у дверей, а бродяги с соседнего пустыря крали. Помню, когда я шла через двор, выглянула луна и я остановилась посмотреть – от луны у меня всегда мурашки по коже, – я задрала голову, чтобы оттуда, со звезд, могли меня увидеть, я верила в такие веши, мне ведь всего тринадцать было. Потом попила еще немного из-под крана и пошла к себе в комнату, наверх, по железной лестнице, на которой я однажды, лет девяти, вывихнула ногу. А когда собиралась зажечь свечку на столике, чья-то горячая рука схватила меня за плечо, я услыхала, что запирают дверь, а другая рука заткнула мне рот, и я почувствовала вонь, негр щупал меня и тискал, что-то бормотал в ухо и обслюнявил мне все лицо, разодрал платье, а я ничего не могла поделать, даже не кричала, потому что знала: он убьет меня, если закричу, а я не хотела, чтобы меня убивали, что угодно – только не это, умирать – хуже оскорбления нету и нет большей глупости на свете. Что ты на меня так смотришь, Орасио? Я рассказываю, как меня в нашем доме-муравейнике изнасиловали, Грегоровиусу хотелось знать, как мне жилось в Уругвае.
– Рассказывай со всеми подробностями, – сказал Оливейра.
– Не обязательно, достаточно общей идеи, – сказал Грегоровиус.
– Общих идей не бывает, – сказал Оливейра.
(—120)
16
– Он ушел почти на рассвете, а я даже плакать не могла.
– Мерзавец, – сказала Бэпс.
– О, Мага вполне заслуживает такого внимания, – сказал Этьен. – Одно, как всегда, странно – дьявольский разлад между формой и содержанием. В случае, о котором ты рассказала, механизм полностью совпадает с механизмом того, что происходит между двумя возлюбленными, не считая легкого сопротивления и, возможно, некоторой агрессивности.
– Глава вторая, раздел четвертый, параграф А, – сказал Оливейра. – «Presses Universitaires Françaises» [43].
– Ta gueule, – выругался Этьен.
– Короче, – заключил Рональд, – настало, кажется, время послушать что-нибудь вроде «Hot and Bothered» [44].
– Подходящий заголовок для славных воспоминаний, – сказал Оливейра, поднимая стакан. – Храбрый малый был этот негр, а?
– Не надо шутить, – сказал Грегоровиус.
– Сами напросились, приятель.
– Да вы пьяны, Орасио.
– Конечно, пьян. И это великий миг, час просветления. А тебе, детка, придется подыскивать какую-нибудь геронтологическую клинику. Посмотри на Осипа, ты ему годков двадцать добавила своими милыми воспоминаниями.
– Он сам просил, – обиделась Мага. – Сперва просят, а потом недовольны. Налей мне водки, Орасио.
Но, похоже, Оливейра не был расположен больше путаться-мешаться между Магой и Грегоровиусом, который бормотал никому не нужные объяснения. Гораздо нужнее оказалось предложение Вонга сварить кофе. Крепкий и горячий, по особому рецепту, перенятому в казино «Ментона». Предложение было принято единодушно, под аплодисменты. Рональд, нежно поцеловав этикетку, поставил пластику на проигрыватель и торжественно опустил иглу. На мгновение могучий Эллингтон Увлек их сказочное импровизацией на трубе, а вот и Бэби Кокс, за ним, мягко и как бы между прочим, вступил Джонни Ходжес и пошло крещендо (ритм за тридцать лет у него стал тверже – старый, хотя все еще упругий тигр), крещендо напряженных и в то же время свободных риффов, и на глазах родилось маленькое чудо: swing ergo существую [45]. Прислонившись к эскимосскому ковру и глядя сквозь рюмку водки на зеленые свечи (как мы ходили на набережную Межиссери смотреть рыбок), совсем легко согласиться с пренебрежительным определением, которое Дюк дал тому, что мы называем реальной действительностью: «It don’t mean a thing if it ain’ that swing» [46], но почему все-таки рука Грегоровиуса перестала гладить Магу по голове, бедный Осип совсем сник, тюлень, да и только, как расстроила его эта приключившаяся в стародавние времена дефлорация, просто жаль смотреть на него, такого напряженного в этой обстановке, где музыка, сламывая любое сопротивление, расслабляла и размягчала, плела и сплетала все в единое дыхание, и вот уже словно одно на всех огромное сердце забилось в едином покойном ритме. И тут хриплый голос пробился сквозь заигранную пластинку со старым, времен Возрождения, изложением древней анакреонтовской тоски, с чикагским сагре diem [47] 1929 года:
You so beautiful but you gotta die some day,You so beautiful but you gotta die some day,All I want’s little lovin’ before you pass away [48].Время от времени случалось так, что слова давно умерших совпадали с тем, о чем думали живые (если только последние были живы, а те действительно умерли). «You so beautiful. Je ne veux pas mourir sans avoir compris pourquoi j’avais vecu» [49]. Блюз, Рене Домаль, Орасио Оливейра, «but you gotta die some day, you so beautiful but» – и потому Грегоровиус так хочет знать прошлое Маги, чтобы она чуть-чуть меньше умерла от той окончательной смерти, которая все уносит куда-то, от той смерти, которая есть незнание того, что унесено временем; он хочет поместить ее в свое принадлежащее ему время you so beautiful but you gotta, поместить и любить не просто призрак, который позволяет гладить его волосы при свете зеленых свечей, – бедный Осип, как скверно кончается ночь, просто невероятно, да еще эти башмаки Ги-Моно, but you gotta die some day, и негр Иренео (позже, когда он окончательно вотрется к ней в доверие, Мага расскажет ему и про Ледесму, и про типов из ночного карнавала – словом, всю целиком сагу о Монтевидео). И тут Эрл Хайнс с бесстрастным совершенством изложил первую вариацию темы «I ain’t got nobody» так, что даже Перико, зачитавшийся каким-то старьем, поднял голову и слушал, а Мага как приткнулась головой к коленям Грегоровиуса, так и застыла, уставившись на паркет, на кусок турецкого ковра, на красную прожилку, уходившую к центру, на пустой стакан на полу у ножки стула. Хотелось курить, но она не станет просить сигарету у Грегоровиуса, не знает почему, но не станет, не попросит и у Орасио, хотя почему не попросит у Орасио – знает: не хочется смотреть ему в глаза и видеть, как он опять засмеется в отместку за то, что она прилепилась к Грегоровиусу и за всю ночь ни разу не подошла к нему. Она чувствовала себя неприкаянной, и оттого в голову лезли возвышенные мысли и строчки из стихов, попадавшие, как ей казалось, в самое яблочко, например, с одной стороны: «I ain’t got nobody, and nobody cares for me» [50], что, однако, было не совсем так, поскольку по крайней мере двое из присутствовавших пребывали в дурном настроении по ее милости, и в то же время строка из Перса: «Tu est là, mon amour, et je n’ai lieu qu’en toi…» («Ты – здесь, любовь моя, мне некуда идти, но лишь в тебя…»), и Мага цеплялась за это «мне некуда идти» и за «Ты – здесь, любовь моя», и было легко и приятно думать, что у тебя просто нет иного выхода, кроме как закрыть глаза и отдать свое тело на волю судьбы, – пусть его берет, кто хочет, пусть оскверняют и восторгаются им, как Иренео, будь что будет, а музыка Хайнса накладывалась бы на красные и синие пятна, что пляшут под веками, и у них, оказывается, есть имена – Волана и Валене, слева – бешено крутится Волана («and nobody cares for me»), а наверху – Валене, словно звезда, утопающая в яркой, как у Пьеро делла Франчески, сини, «et je n’ai lieu qu’en toi». Волана и Валене. Рональду никогда не сыграть на рояле, как Эрл Хайнс, а надо бы им с Орасио иметь эту пластинку и заводить ее по ночам, в темноте, и научиться любить друг друга под эти томительные музыкальные переливы, под эти фразы, похожие на долгие нервные ласки, «I ain’t got nobody», а теперь на спину, вот так, на плечи, а руки закинуть за шею и пальцы запустить в волосы, еще, еще, и вот все закручивается в последний, финальный, вихрь, Валене сливается с Волана, «tu est là, mon amour and nobody cares for me» [51]. Орасио – там, и никому она не нужна, никто не гладит ее по голове, Валене и Волана куда-то пропали, а веки болят – так крепко она зажмурилась, но тут что-то сказал Рональд и запахло кофе, о, этот дивный запах кофе, Вонг, дорогой Вонг, Вонг, Вонг.
Она выпрямилась и, часто моргая, поглядела на Грегоровиуса, помятого и грязного Грегоровиуса. Кто-то подал ей чашку.
(—137)
17
– Мне не хочется говорить о нем походя, – сказала Мага.
– Не хочется – не надо, – сказал Грегоровиус. – Я просто спросил.
– Я могу говорить о чем-нибудь другом, если вы просто хотите, чтобы я говорила.
– Зачем вы так?
– Орасио – все равно что мякоть гуайавы, – сказала Мага.
– Что значит – мякоть гуайавы?
– Орасио – все равно что глоток воды в бурю.
– А, – сказал Грегоровиус.
– Ему бы родиться в те времена, о которых любит рассказывать мадам Леони, когда немножко выпьет. В те времена, когда люди не волновались – не дергались, когда трамваи возило не электричество, а лошади, а войны велись на полях сражения. Тогда еще не было таблеток от бессонницы, мадам Леони говорит.
– Прекрасная, золотая пора, – сказал Грегоровиус. – В Одессе мне тоже рассказывали об этих временах. Мама рассказывала, она так романтично выглядела с распущенными волосами… На балконах выращивали ананасы, и никто не пользовался ночными горшками – что-то необыкновенное. Только Орасио в эту сладкую картину у меня не вписывается.