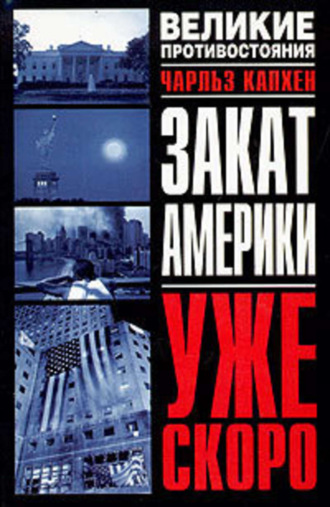 полная версия
полная версияЗакат Америки. Уже скоро
На экономическом «фронте» несовпадающие региональные интересы вполне могут обрести новые формы. Для большинства регионов США коммерция, несмотря на ужесточение пограничного режима после террористических актов в сентябре 2001 года, означает, как правило, выход за пределы национальных границ. Мексиканские рабочие стремятся в Соединенные Штаты, а американские компании все больше осваиваются в Мексике. По мере роста испано-язычной общины на Юго-Западе ее культурные и экономические связи с Мексикой становятся все прочнее. Эль Пасо и Сьюдад Хуарес, равно как Сан-Диего и Тихуана, вопреки разделяющим их национальным границам, ныне представляют собой крупные городские зоны. Нью-Мексико осуществляет совместные строительные проекты с мексиканским «соседом» – штатом Чихуахуа. В марте 2002 года Соединенные Штаты и Мексика согласились внедрить новую систему пограничного контроля, предназначенную для облегчения пересечения границы без ущерба для безопасности США(64). Согласно Аделе де ла Торре, директору Отдела американо-мексиканских исследований и исследовательского центра университета Аризоны в Таксоне: «Люди, проживающие у границы, ее не замечают. Мы делим свои жизни с теми, кто живет в Мексике»(65).
Северная граница США переживает аналогичную трансформацию. Первый экономический саммит «Нью-Йорк—Онтарио» прошел в июне 2001 года под председательством мэра Нью-Йорка Джорджа Патаки и премьера провинции Онтарио Майкла Харриса.
Как выразился один комментатор: «В программе встречи присутствовала мысль, которую уже давно высказывают те, кто живет по обеим берегам Ниагары и реки Святого Лаврентия, – судьба региона зависит от тесных экономических связей, по каковой причине национальная граница между США и Канадой представляется ненужной»(66). После террористических атак в сентябре 2001 года возникло предложение создать на территории Канады и США «общий периметр безопасности» для совместного контроля за туристами и иммигрантами(67). В декабре два государства подписали пакт об усилении сотрудничества в обеспечении внутренней безопасности и охране границ. Портленд, Сиэтл и Ванкувер могут похвалиться прочными экономическими и культурными связями. Роберт Каплан предположил, что растущая лояльность жителей этого региона к своей территории – области Каскадных гор (Каскадии) – может со временем пересилить лояльность по отношению к государствам и нациям68. Бизнес-стратег Кеничи Омэ соглашается с Капланом: представляет ли по-прежнему национальное государство «уникальную общность экономических интересов», спрашивает он, и формирует ли «смысловые потоки экономической активности»?(69)
В дни расцвета национального государства культурные, экономические и политические границы совпадали. С наступлением цифровой эры общественная идентичность и коммерческие потоки оказались в эпицентре перемен, однако политические границы остались неизменными. Эта ситуация в лучшем случае может привести к умалению значимости национального государства. Более вероятно, что продолжающиеся экономические, политические и социальные изменения поставят вопрос о правомерности существования национального государства (по крайней мере, в его нынешнем виде) как доминирующей политической единицы.
Артур Шлезингер-младший в книге «Разъединение Америки» писал, что Соединенные Штаты представляют собой «эксперимент, осуществлявшийся сравнительно успешно, эксперимент по созданию общей идентичности у людей разных рас, религий, языков и культур. Этот эксперимент может быть продолжен, только если Америка сохранит веру в цель. Если республика откажется от цели, от вашингтоновского принципа «единого народа», – что ждет нас в будущем? Дезинтеграция национального общества, расовая изоляция, балканизация, трайбализация?»(70) Пожалуй, рассуждения о том, что могущественное мультиэтническое демократическое государство способно прийти к столь безрадостному концу, кажутся несколько преувеличенными, однако Америке достаточно посмотреть на север, чтобы обнаружить богатую мультиэтническую демократическую страну, стоящую перед угрозой распада. На последнем референдуме 1995 года франкоговорящий Квебек оказался буквально на волосок от отделения от Канады: за выход из состава Канады проголосовало 49,4% жителей Квебека.
Многие аналитики предполагают, что события сентября 2001 года помогут «развернуть» опасные политические и социальные тенденции. Роберт Патнем заявил: «Мне кажется, что 11 сентября способно стать поворотным моментом для гражданской Америки. Это ужасная трагедия, однако она может принести пользу нашей стране, если заставит нас сплотиться… и больше доверять своему правительству». После террористических атак Америка и в самом деле сплотилась, возросли и гражданский дух, и доверие к правительству. Американцев любого происхождения объединили общая боль и общий гнев. Это проявление национального единства было столь же выразительным, сколь и искренним. Но затруднительно интерпретировать его иначе, чем сиюминутную реакцию на экстраординарные обстоятельства. Патнем признает: «Все может исчезнуть в мгновение ока»(71). Война с терроризмом не пригодна для обращения социальных трендов, обусловленных переменами в текущем способе производства и влиянии последнего на политическую жизнь.
Дело не в том, что цифровая эра неминуемо приведет к политической фрагментации Америки. Соединенные Штаты – чрезвычайно упругое и устойчивое государство(72). Эта упругость поможет Америке справиться с грядущими переменами, которые знаменуют собой цифровую эру.
Дело в том, что Америку ожидают новые вызовы и испытания. Эти вызовы обладают потенциалом по уничтожению республиканской демократии и национального государства. Вместо того чтобы мостить дорогу счастливому будущему процветания и стабильности, цифровая эра ведет нас к политическим и социальным трансформациям, не менее фундаментальным, чем те, которыми сопровождалось наступление индустриальной эры.
ПОДГОТОВКА К СМЕНЕ ЭПОХ
Догадаться о том, какие политические и социальные институты будут доминировать в цифровую эру, сейчас практически невозможно; с равным успехом мы могли бы прогнозировать течение индустриальной эры, находясь, пожалуй, в 1700 году. Тем не менее предположение о том, что закат американского господства совпадает с окончанием эры индустриального капитализма, ведет к нескольким прогностическим выводам.
Америка более не способна удерживать свое слабеющее господство и сохранять управление нестабильным международным сообществом без изменения внутренней политики. Создание новой большой стратегии и выработка новых принципов международного присутствия Америки требуют соответствующих политических институтов, поддержки населения и национальной идентичности, достаточно сильной, чтобы обеспечить самопожертвование и чувство общей цели.
Общественный и частный секторы должны трудиться сообща во имя пробуждения угасающего гражданского сознания и предотвращения этнической, социальной и региональной сегрегации, которая угрожает самому существованию американского национального государства. Несмотря на то что цифровая эра, как представляется, оказывает негативное воздействие на гражданскую активность, творческое использование Интернета способно повысить политическую активность нации. Некоторые ученые уповают на «граждан информационного мира» и на учреждение «совещательных доменов» как на средство популяризации интернет-дискурса среди общественных институтов, групп интересов и простых граждан(73). Интернет способен многократно ускорить доступ к публичным материалам(74). Цифровые технологии также могут быть использованы для голосования и для организации виртуальных муниципальных советов(75).
Гражданская активность в Интернете, однако, не способна заменить живое общение. Улучшая свои сайты и создавая представительства в Вашингтоне, общественные организации должны мобилизовать усилия рядовых членов, дабы потребовать восстановления целостности политической системы, проведения радикальной финансовой реформы и ограничения эффекта корпоративного влияния на общественную жизнь. Каждый новый гипермаркет должен иметь территорию для проявления гражданской активности, будь то партийное собрание, общественная дискуссия или благотворительный вечер.
Общественные и частные усилия потребуются также для борьбы с социальной фрагментацией и поляризацией, которые предположительно возникнут в цифровую эру. Понадобятся инвестиции в городское хозяйство, чтобы восстановить экономическую жизнеспособность и социальную гетерогенность многих урбанистических центров. Федеральное правительство и законодательные собрания штатов должны принять совместные меры для нормализации ситуации, в которой все большее количество испаноязычных детей посещает национальные школы. Программа «национализации» должна обеспечить «смешивание» американцев различного этнического и социального происхождения, помочь в создании социального капитала и внушить чувство верности национальному государству.
Цифровая эра оказывает не менее существенное влияние на американскую внешнюю политику. С начала XXI века два различных типа исторических циклов трансформируют мировое окружение Америки. На страницах этой книги много и подробно говорилось об исторических циклах подъемов и спадов в истории великих держав. Поступательное движение человеческой истории отражается, в частности, в возвышении Европы и закате американского однополярного мира. В последней главе говорится о более масштабных циклах, определяемых способами производства; изменение этих способов приводит к переходу из одной эпохи в другую. В поступательном развитии данного цикла заложены упадок индустриальной эры и наступление эры цифровой.
Два цикла одновременно достигли критической точки. Американское господство ослабло в тот самый момент, когда начался переход из одной эпохи в следующую. Темп изменений, впрочем, значительно отличается. Закат американского величия затянется от силы на два ближайших десятилетия. Завершение же эры индустриальной и наступление эры цифровой займут и это столетие, и последующее. Тем не менее факт совпадения двух циклических переходов заставляет повнимательнее присмотреться к вызовам, стоящим перед международным сообществом.
Смена эпох по двум причинам усиливает турбулентность, сопровождающую возврат к мультиполярному миру. Во-первых, переход от индустриальной к цифровой эре создаст определенное напряжение в мировой политической системе. Привилегированное положение Соединенных Штатов, ЕС и Японии обусловлено в первую очередь развитой экономикой данных стран. Однако это обстоятельство выдвигает данные государства в авангард истории; именно они в первую очередь ощутят на себе «смещающее» воздействие цифровой экономики. Если их основные политические и социальные институты в ближайшие годы ослабеют, эти государства, вполне вероятно, сосредоточатся на внутренних проблемах и перестанут реагировать на колебания волатильного международного сообщества. Государства, внутриполитические институты которых также претерпевают трансформацию, уязвимы к попыткам вынести «домашние» проблемы за пределы национальных границ посред ством агрессивной внешней политики. Французская революция и ее влияние на политические и социальные институты Франции сыграли огромную роль в разжигании геополитических амбиций и привели к наполеоновским войнам. Первая мировая война «восходит» к индустриализации Германии и к тому национализму, который возник из политической бури, вызванной экономическими переменами. Государства, чьи «домашние» институты претерпевают трансформацию, нередко оказываются трудноуправляемыми и труднопредсказуемыми на международной арене.
Смена эпох может усугубить запутанную политическую ситуацию и по другой причине – неприятности, скорее всего, возникнут на линии разделения эпох. Государства на различных этапах исторического развития нередко бросали вызов друг другу преимущественно потому, что придерживались противоположных организационных принципов. После перехода к аграрной эпохе кочевые племена и аграрные государства регулярно вступали в вооруженные конфликты, которые завершились только с признанием кочевниками своей неспособности противостоять экономическим и военным новшествам аграрного общества. С наступлением индустриальной эры государства, осуществившие переход к демократической республике, регулярно конфликтовали с государствами, приверженными авторитарным формам правления. Вполне может быть, что государства, вступившие в фазу перехода к цифровой эре, обнаружат себя в противостоянии с теми, кто задержался на предыдущем историческом этапе. Террористические атаки в сентябре 2001 года явились, в том числе, нападением «задержавшихся» на тех, кто «ушел вперед».
Эта проблема представляется особенно острой с учетом расстояний, существующих ныне между передовыми государствами и государствами отставшими. Пропасть между теми и другими никогда не была столь широка. Цифровые технологии пронизывают передовые общества и ускоряют их исторический прогресс. Американцы оживленно обсуждают, как обеспечить гражданам США широкополосный доступ в Интернет, а также решают, имеет ли смысл вкладывать средства в исследования стволовых клеток. В то же самое время менее развитые страны находятся на той стадии развития, на которой прогресс почти не ощущается. Их граждане по-прежнему собирают хворост, размышляют о том, где добыть пищу, и беспокоятся о том, смогут ли они получить хотя бы элементарную медицинскую помощь. У этих двух миров нет почти ничего общего, и потому им не объединить усилия для коллективного ответа на вызовы истории, будь те гуманитарными, природными или геополитическими. По мере утверждения цифровой эры расстояние между передовыми и отстающими странами будет только увеличиваться.
Стремление развивающихся стран догнать страны передовые – последний источник потенциальной турбулентности. Государства, мчащиеся к цифровой эре, рискуют «проскочить» через важные стадии развития, вероятно, заплатив за это высокую цену. К примеру, Россия желает интегрироваться в мировые рынки. Однако отсутствие крепкого среднего класса может оставить ее без политического балласта, необходимого для нейтрализации колебаний международной экономики. В 1990-х годах страны Юго-Восточной Азии процветали благодаря сильной вовлеченности в глобальный финансовый рынок. Однако стоило им перевести экономику в цифровую эру, выяснилось, что их традиционные политические и социальные институты невосприимчивы к новым условиям; именно это обстоятельство и стало одной из причин финансового кризиса в регионе. Сотовые телефоны проникли в Македонию наравне со многими другими развивающимися странами. Но в отсутствие профессиональной и независимой прессы способность мобильной связи распространять слухи и разжигать политические страсти привела к этническому насилию 2001 года. Да, государства, проскакивающие ряд исторических этапов в своем развитии, платят за это сполна.
Таков непредвзятый портрет будущего. Во всяком случае, эти прогнозы доказывают, что история не намерена заканчиваться. Возвращение многополярного мира и наступление цифровой эры неизбежны, поскольку оба этих явления суть результат исторической эволюции и ее циклов. Америка утратит лидерство, а Европа и следом Азия поднимутся на пьедестал мирового доминирования. Цифровая эра будет преподносить нам все новые технические достижения. Человеческий выбор, безусловно, имеет значение, однако история обладает и собственной движущей силой.
Простор для выбора остается у человека применительно к вызовам, которые будут сопровождать победный марш истории. Первый шаг – подготовка к геополитическим переменам и смене эпох; необходимо признать, что таковые имеют место, очертить их причины и возможные последствия. Именно в этом и состоит цель данной книги. А тем, кого убедили предостережения, предстоит трудная, но крайне важная задача – подготовка к закату американского величия.
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Andrew Sullivan, «America at War: America Wakes Up to a World of Fear». Sunday Times (London), September 16, 2001.
ГЛАВА 1
1. ADM 116/3099, June 22, 1912, memo by Winston Churchill, p. 2—3. (Все цитаты из архивных документов в этой главе приводятся по материалам Британского публичного архива. Сокращения ADM, CAB и WO означают соответственно Адмиралтейство, кабинет министров и министерство обороны.)
2. J.H. Rose, A.P. Newton, and E.A. Benians, «The Cambridge History of the British Empire», vol. 1 (Cambridge: The University Press, 1929), p. 95.
3. Foreign Office memo cited in Paul M. Kennedy, «The Rise and Fall of British Naval Mastery» (London: Macrnillan, 1983), p. 219.
4. India Office Library, Curzon Papers, vol. 144, Godley to Curzon, November 10, 1899, cited ibid., p. 211.
5. CAB 38/8/14, February 24,1905, «Our Present Minimum Military Requirements», p. 1.
6. Crowe Memorandum of January 1,1907, citedin Henry Kissinger, «Diplomacy» (New York: Simon & Schuster, 1994), p. 193.
7. Cited in Kennedy, «The Rise and Fall of British Naval Mastery», p. 224.
8. CAB 24/107, June9,1920, «BritishMilitary Liabilities», p. 1-2.
9. CAB4/21/1087B, March 11,1932, «Imperial Defense Policy», p. 2; CAB 2/5, April 6,1933, Minutes of the 258th Meeting of the Committee of Imperial Defence.
10. CAB 16/111 /120, June 20,1934, «Disarmament Conference 1932», p. 2.
11. CAB 16/111/125, july 18,1934, «naval defence requirements», p. 1.
12. Grenfell cited in Williamson Murray, «The Change in the European Balance of Power, 1938—1939». (Princeton: Princeton University Press), p. 75.
13. WO 33/1004, January 10, 1922, «The Interim Report of the Committee on National Expenditure», Doc. VII, p. 51.
14. Ironside cited in William R. Rock, «British Appeasement in the 1930s» (London: Edward Arnold, 1977), p. 46.
15. CAB 21 /700, February 22,1937, «Review of Imperial Defence», p. 12.
16. CAB 53/13, J.P. 315, September 23, 1938, «The Czechoslovak Crisis», cited in Murray, «European Balance of Power», p. 209.
17. Martin Gilbert, «The Roots of Appeasement» (London: Weidenfeld & Nicolson, 1966), p. 186.
18. «Excerpts from Pentagon's Plan: «Prevent the Re-Emergence of a New Rival»», New York Times, March 8,1992.
19. «Interview of the President by Wolf Blitzer, CNN Late Edition», June 20,1999. Available at: http://clinton6.nara gov/1999/06/ 1999-06-20-late-night-edition-cnn-inter-view html.
20. «After Kosovo: Building a Lasting Peace», remarks delivered at the Council on Foreign Relations, New York, June 28,1999. Available at: http://www cfr org/public/ pubs/AlbrightRem. html.
21. Richard Haass, cited in Thorn Shanker, «White Hous Says the U.S. Is Not a Loner, Just Choosy», New York Times July 31, 2001.
22. Alan Sipress, «Bush Retreats from U.S. Role as Peace Broker», Washington Post, March 17, 2001.
23. David E. Sanger, «Bush Tells Seoul Talks with North Won't Resume Now», New York Times, March 7, 2001.
24. The United States Commission on National Security/21 st Century, «New World Coming: American Security in the 21st Century». Available at: http://www nssg gov/Reports/NWC.pdf.
25. Tyndall Report, as cited in David Shaw, «Foreign News Shrinks in an Era of Globalization», Los Angeles Times, September 27, 2001.
26. Hall's Magazine Editorial Reports, cited in James F. Hoge, Jr., «Foreign News: Who Gives a Damn?» Columbia Journalism Review, vol. 36, no. 4 (November—December 1997), p. 48—52.
27. Pew Center for the People and the Press, «Public and Opinion Leaders Favor Enlargement», October 7,1997. Available at: http://208.240.91.18/natorel htm.
28. Gerard Baker and David Buchan, «American Isolationism Put to the Test», Financial Times, October 15,1999.
29. 14 сентября 2001 года Сенат и Палата представителей проголосовали за резолюцию, разрешающую президенту «использовать все необходимые меры» для отражения террористических атак. «За» высказались все 98 сенаторов и 420 членов Палаты представителей (1 «против»), В ходе опроса, проводившегося с 20 по 23 сентября 2001 года 92 процента респондентов поддержали военные действия против любой стороны, причастной к террористическим атакам. См.: «Poll Finds Support for War and Fear on Economy», New York Times, September 25,2001.
30. Shibley Telhami, «The Mideast Is Also Changed», New York Times, September 19,2001.
31. Francois Heisbourg, «De l'apres-guerre froide a l'hyperterrorisme», Le Monde, September 13, 2001.
32. Adam Clymer, «A House Divided. Senate, Too», New York Times, December 2, 2001.
33. Powell cited in Lawrence F. Kaplan, «Drill Sergeant», The New Republic, March 26, 2001. Available at: http://www tnr com/032601 /kaplan032601.html.
34. Цифры взяты из отчета Статистического бюро США. «U.S. International Trade in Goods and Services, January 1998 to December 2000«. Available at: http://www census gov/foreign-trade / Press-Release / 2000pr/ Final Revisions 2000/exhl txt. Данные по Канаде и Мексике приводятся по таблицам 10 и 10а из отчета Бюро экономического анализа министерства торговли США. «U.S. International Transactions Account Data». Available at: http: / /www bea. doc gov/bea/international/ bpweb/list.clm?anon=127. 35. Современный анализ, подтверждающий необходимость возвращения Америки к изоляционистской политике см. в книге Eric A. Nordlinger, «Isolationism Reconfigured: American Foreign Policy for a New Century» (Princeton: Princeton University Press, 1995); and Eugene Gholz, Daryl G. Press, and Harvey M. Sapolsky, «Come Home, America: The Strategy of Restraint in the Face of Temptation», International Security, vol. 21, no. 4 (Spring 1997), p. 5—48.
ГЛАВА 2
1. «The Sources of Soviet Conduct», Foreign Affairs, vol. 25, no. 4 (July 1947), p. 566—582.
2. «Moscow Embassy Telegram #511», February 22,1946, in Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945—1950, ed. Thomas H. Etzold and John Lewis Gaddis (New York: Columbia University Press, 1978), p. 55—63.
3. «United States Objectives and Programs for National Security», NSC-68, April 14,1950, ibid., p. 427.
4. Paper prepared by Mr. John Foster Dulles, Consultant to the Secretary of State, «Estimate of Situation», November 30, 1950, in Foreign Relations of the United States, 1950, vol. 6 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1950), p. 162.
5. «Final Report of the Joint MDAP Survey Mission to Southeast Asia», December 6, 1950, ibid., p., 166.
6. Dulles, «Estimate of Situation», p. 162.
7. Francis Fukuyama, «The End of History?» National Interest, no. 16 (Summer 1989), p. 3—18; Francis Fukuyama, «The End of History and the Last Man» (New York: Free Press, 1992).
8. John J. Mearsheimer, «Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War», International Security, vol. 15, no. 1 (Summer 1990), p. 5—56; John J. Mearsheimer, «Why We Will Soon Miss the Cold War», Atlantic Monthly, vol. 266, no. 2 (August 1990), p. 35—50.
9. Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (Summer 1993); Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order» (New York: Simon & Schuster, 1996).
10. Matthew Connelly and Paul Kennedy, «Must It Be the Rest Against the West?» Atlantic Monthly, vol. 274, no. 6 (December 1994), p. 61 —83. Кеннеди также высказал свой взгляд на складывающуюся международную систему в книге «Preparing for the Twenty-first Century» (New York: Random House, 1993).
11. Robert D. Kaplan, «The Coming Anarchy», Atlantic Monthly, vol. 273, no. 2 (February 1994), p. 44—76; Robert D. Kaplan, «The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of the Post Cold War» (New York: Random House, 2000).
12. Thomas L. Friedman, «The Lexus and the Olive Tree» (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1999).
13: Fukuyama, «The End of History?» p. 4.
14. Fukuyama, «The End of History and the LastMan», p. XVIII.
15. Из современных работ по демократическому миру см.: Michael W. Doyle, «Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs», Philosophy and Public Affairs, vol. 12, nos. 3 and 4 (Summer and Fall 1983), p. 205—235, p. 323—353; Bruce M. Russett, «Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post—Cold War World» (Princeton: Princeton University Press, 1993); «Debating the Democratic Peace», ed. Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones, and Steven E. Miller (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996); and «Paths to Peace: Is Democracy the Answer?» ed. Miriam Fendius Elman (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997).
16. Fukuyama, «The End of History and the Last Man», p. XX.
17. Ibid., p. 276.
18. Fukuyama, «The End of History?» p. 18.
19. Francis Fukuyama, «SecondThoughts: The Last Man in a Bottle», National Interest, no. 56 (Summer 1999), p. 16—33.
20. Mearsheimer, «Back to the Future», p. 142. Хотя Миршеймер, составляя карту мира после «холодной войны», изначально рассматривал только Европу, впоследствии он включил в рассмотрение и Восточную Азию («The Tragedy of Great Power Politics», New York: Norton, 2001). Он придерживается точки зрения, сформулированной в ранних работах, и предсказывает постепенный вывод американских войск из Европы и Восточной Азии и возвращение в эти регионы геополитического соперничества. Прочие «реалисты», например, Кеннет Уолтц, также рассматривают экономический подъем Японии и Китая как предвестие геополитического соперничества в регионе. «Рано или поздно международный статус государств придет в соответствие с их материальными ресурсами». Kenneth N. Waltz, «The Emerging Structure of International Politics», International Security, vol. 18, no. 2 (Fall 1993), p. 66. См. также Aaron L. Friedberg, «Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia», International Security, vol. 18, no. 3 (Winter 1993—1994), p. 5—33.

