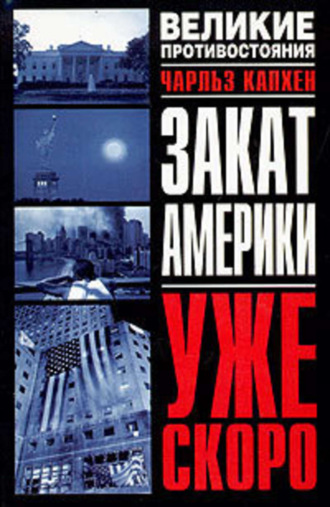 полная версия
полная версияЗакат Америки. Уже скоро
Создание единой социальной ткани значительно упрощается в случае географической близости заинтересованных стран. Идентичность предполагает активные социальные контакты, которые легче осуществить на близких расстояниях. Кроме того, общий язык и общие культурные ценности также способствуют единению, порождая отчетливо выраженное ощущение сплоченности. Самюэль Хантингтон ошибался, когда говорил о том, что различные цивилизации рано или поздно должны прийти к конфронтации, однако он, безусловно, прав в отношении того, что культура имеет для идентичности определяющее значение. При прочих равных условиях гораздо легче сформировать единую идентичность государств с общей культурой, чем государств, культуры которых разнятся. Не случайно, что в регионах, в которых социальная интеграция зашла наиболее далеко, – в Северной Америке, Скандинавии, Западной Европе, – культурная общность в значительной степени определяет политическое и экономическое единство. По этой причине социальная интеграция гораздо легче протекает внутри регионов, чем между ними. Указанные особенности еще раз подчеркивают необходимость построения «частичного мира» и создания региональных зон стабильности – вех на пути к всеобщему миру.
Тем не менее для Соединенных Штатов принципиально важно распространить собственные социальные нормативы за пределы своего региона. Упорным трудом в течение последних пятидесяти лет Америка и Европа выработали атлантическую политику, для которой кооперация стала базовым принципом. Достигнутое равновесие может быть нарушено, когда Европа обретет большую самостоятельность, а Соединенные Штаты обратятся к своим внутренним проблемам. Однако поддержание общей идентичности послужит на пользу обеим державам, предотвратив возникновение соперничества. Культурный и образовательный обмен, регулярные визиты конгрессменов и парламентариев, общая история и традиционные праздники, а также высокие объ емы трансатлантического товарооборота – все это разумные шаги к лучшему будущему.
Соединенные Штаты в данный момент обладают большими, чем в предыдущие годы, возможностями интеграции социальных норм в международную жизнь. Распространение демократии не может гарантировать мир, но оно способствует созданию единых норм и правил, на которых базируется чувство общности. Это чувство укрепляется повсеместным соблюдением гражданских прав, юридических норм и процедур разрешения споров и т. д. Встречи, подобные состоявшемуся в 2000 году в Варшаве Всемирному демократическому форуму, имеют важное идеологическое значение и обладают большим практическим потенциалом, поскольку обеспечивают надежную платформу для будущего политического и экономического сближения. Кроме того, Соединенные Штаты должны развивать отношения с недемократическими режимами. И даже если в результате мусульманское общество не придет к пониманию важности социальной конвергенции, усилия со стороны американцев неизбежно приведут к потеплению взаимных отношений.
Цифровая эра открывает новые возможности социальной интеграции на уровне общественных и личных контактов. Развитие транспортных и коммуникационных технологий позволяет активизировать социальное взаимодействие независимо от расстояний. Воздушные перевозки обеспечивают возможность личного контакта людей, проживающих в разных полушариях Земли. В периоде июня 1999 года по июнь 2000 года американские и зарубежные авиакомпании перевезли международными рейсами 137 миллионов пассажиров из Соединенных Штатов(56). Что касается Интернета, он позволяет организовывать международные референдумы и многонациональные встречи вне зависимости от государственных границ.
Международные институты вносят свой вклад в дальнейшую социальную интеграцию. Участие в таких организациях, как НАТО и НАФТА, усиливает чувство общности как среди политической элиты, так и среди простых людей. Вступление Китая в ВТО объясняется не только важностью развития торговых отношений, но и стремлением общественного мнения видеть Китай равноправным членом мирового сообщества. Усиление демократической ответственности и повышение прозрачности международных институтов способствуют усилению их социализирующей роли. Расширение полномочий парламентских групп повышает легитимность работы чиновников и дипломатов(57).
Сегодня крупнейшие государства мира, так же как члены Священного союза в девятнадцатом столетии, должны культивировать чувство общей судьбы, которое преодолевает исторические и культурные разграничительные линии. Рассматривая Союз как «оплот тесного сотрудничества», его лидеры обращали на это особое внимание, что отлично сформулировал лорд Кестльри: «Мало иметь общий интерес в какой-либо области; надо еще обладать и общей ответственностью» (58). Соединенным Штатам необходимо приступить к формированию вокруг единого центра чувства союзной общности, выражающейся в общем интересе и общей ответственности.
ГЛАВА 8
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСТОРИИ
Современное общество предлагает взгляд на историю, отличающийся ярко выраженной прогрессивностью и эволюционистичностью. Достижения в сфере науки и технологии сделали возможным стабильное повышение качества жизни, о котором даже не могли мечтать люди всего сто лет назад. Прогрессистское представление об истории также присутствует в наших культурных и интеллектуальных институтах. Дарвиновская теория эволюции усвоена рядом научных дисциплин – от медицины до геологии и экономики. Прогрессистский взгляд на человеческое развитие прослеживается и в традициях иудео-христианской культуры: Библия демонстрирует представление об истории человечества как о процессе изменений, проистекающих и накапливающихся во времени.
Подобная эволюционная концепция истории является снованием для более или менее оптимистичной оценки современного положения в мире. Этот оптимизм позволяет Фрэнсису Фукуяме утверждать, что история всегда движется к хэппи-энду, а также, что демократия и глобализация ведут людей к протяженной во времени эпохе мирного сосуществования. После нескольких веков громадных усилий, предпринимавшихся ради будущего благоденствия, человечество наконец-то достигнет своих целей. Рынок сможет удовлетворить материальные потребности людей, а демократия – потребности психические, душевные. История заканчивает свой бег.
В этой книге рассматривается прямо противоположный подход к истории, предполагающий, что историческое развитие обладает как циклическим, так и эволюционным характером. Едва новые открытия распахивают перед человечеством новые горизонты, прогресс наделяет привилегиями определенные типы общественно-политических формаций – чтобы счесть их устаревшими по мере дальнейшего развития способов производства и производственных отношений. Результатом оказывается цикл спадов и подъемов в конкретный исторический период, хотя сама история при этом продолжает поступательное движение.
Кочевое общество уступило оседлому сельскому хозяйству после того, как выяснилось, что плуг и система ирригации значительно эффективнее для добывания пищи, чем копье и охота. Кочевники приняли оседлый образ жизни, образовали небольшие поселения и ввели систему землевладения. Анимизм сменился организованной религией. Сельскохозяйственное общество затем уступило промышленному обществу: фабрики и фактории оказались эффективнее крестьянских хозяйств для повышения благосостояния. Деревни оказались в тени урбанистических центров, монархия и империя отступили перед демократической республикой. Организованная религия, сохранив значимость в частной жизни, уступила национализму роль основного фактора формирования общественной идентичности. Изменения способа производства вели к глубоким политическим и социальным последствиям, осуществляя описанные выше циклические трансформации: от кочевого общества к сельскохозяйственной, и далее, к индустриальной эре.
В настоящее время на пороге новая эпоха – цифровая эра. Технологическим открытием, которое привело к столь значительным историческим изменениям, стало изобретение микрочипа, способного хранить и передавать невероятное по прежним меркам количество информации, а также внедрение коммуникационной инфраструктуры (кабели, ретрансляторы, спутники), обеспечивающей круглосуточную дешевую связь по всему земному шару. Внедрение цифровых технологий радикально изменило сами средства коммуникации, но не способ производства. Однако эти перемены, равно как и новые методы обработки информации, реализуемые в цифровую эпоху, представляют собой трансформацию, как количественно, так и качественно изменяющую и способ производства.
Индустриальное общество разрушается все очевиднее по мере того, как происходит внедрение цифровых технологий, а «информационные» предприятия вытесняют фабричные конвейеры. «Рассвет» эры цифровых технологий и закат индустриальной эпохи оказывают значительное воздействие на основные политические и социальные институты, явившиеся плодом индустриализации, а именно на республиканскую демократию и национальное самосознание. В самом деле, закат индустриальной эпохи и переход к цифровой экономике способны серьезно пошатнуть основы демократической государственности. Один цикл истории уже завершился, а другой лишь восходит на горизонте.
С этой точки зрения закат эпохи американского величия не только подразумевает ликвидацию американского господства и возвращение к мультиполярному миру, но и знаменует собой окончание эры, которую Америка столь ревностно формировала, – эры индустриального капитализма, республиканской демократии и национальной государственности. Фукуяма ошибся, приняв окончание одного из исторических циклов за конец истории в целом. Именно поэтому он рассматривает торжество либеральной демократии как отражение стабильного и спокойного исторического финала, а не как «параметр» конкретного исторического этапа, который вскоре сменится под влиянием меняющегося способа производства. Переход от эпохи к эпохе, как правило, сопровождается «смутными временами», из чего следует, что завершение нынешнего исторического цикла ознаменуется не столько демократическим миром и глобальным консенсусом, сколько грандиозными переменами в политической и геополитической жизни.
Прежде чем подтвердить это положение и подробно рассмотреть возможные последствия перехода от индустриальной эры к цифровой, следует ненадолго вернуться в прошлое, дабы выявить истинную степень взаимозависимости способов производства и социально-политических институтов. Америка на заре своего существования, споры отцов-основателей относительно типа внутренней экономики, способной в наибольшей степени служить республиканским идеалам, – таков будет наш краткий экскурс.
ПРОШЛОЕ
Длительное соперничество между Томасом Джефферсоном и Александром Гамильтоном, оказывавшее непосредственное влияние на внешнюю политику Америки, коренилось в несовпадении их взглядов на то, каким образом американская экономика может воздействовать на политические институты страны. Разногласия по вопросам влияния экономической жизни на американскую демократию привели к многочисленным жарким дебатам. Как писал Майкл Сэндел в своей книге «Неудовлетворенность демократией», споры относительно «политической экономии гражданства» оставались средоточием американской политики вплоть до двадцатого столетия.
Джефферсон и Джеймс Мэдисон возглавляли борьбу за построение преимущественно аграрного общества. Оба верили, что работа на земле привьет американцам качества характера – личную ответственность, честность и гражданское достоинство, – необходимые для эффективного функционирования республиканского правительства. Джефферсон писал: «Те, кто работают на земле, – Богом избранные люди, если Он в самом деле избрал кого-либо среди людей; в чьи сердца Он вложил неистребимую склонность и любовь к добродетели»(1). Мэдисон, соглашаясь с коллегой, настаивал: «Тот класс людей, который способен самостоятельно производить пищу и одежду, может рассматриваться как действительно независимый и счастливый. Более того, это единственная основа общественной свободы, а также крепчайший оплот общественной безопасности. Отсюда следует, что чем больше таких людей будет в нашем обществе, тем более свободным, независимым и счастливым окажется в итоге государство»(2).
Джефферсон, Мэдисон и республиканская партия, которая поддерживала их точку зрения, вовсе не противились развитию производства. Они считали, что Америка должна сконцентрироваться на мелкомасштабном ремесленном производстве домашней утвари и тому подобных предметов. Образ жизни ремесленников и мастеров, равно как и фермеров, должен обеспечивать уверенность в собственных силах и достоинство – важнейшие качества республиканского общества. В противоположность этому развитие промышленности и урбанизация будут ослаблять гражданскую добродетель, лишать рабочих самоуважения, приведут к коррупции и безнравственности. Как многозначительно отметил Джордж Мейсон: «Если добродетель является основополагающим принципом республики и если она не может существовать сколько-нибудь долго без бережливости, неподкупности и суровой морали, – неужели перенаселенные города воспримут наши принципы управления? Неужели порок, безнравственность назиданий, продажность и разврат, процветающие в больших городах, приведут к расколу общества?»(3). Страх перед политическими и социальными сложностями жизни в больших городах, равно как и убежденность в неразрывной связи гражданской добродетели и аграрного общества, заставляли республиканцев стремиться к экономической политике, основанной на освоении новых земель и открытии международных рынков для американской сельхозпродукции.
Гамильтон соглашался с Джефферсоном в том, что характер американской экономики будет оказывать значительное влияние на политические и социальные институты страны, однако он имел свой взгляд на экономическую основу молодого государства. Гамильтон полагал, что сельская жизнь создает «государство, наиболее благосклонное по отношению к свободе и независимости человеческого разума»(4). Тем не менее, считал он, демократическим государством должна править образованная и професси ональная элита, а не фермеры с ремесленниками, сколько угодно добродетельные. Америка представлялась Гамильтону мощной державой, а этого статуса невозможно было достичь без индустриализации, урбанизации и постепенного снижения зависимости внутреннего рынка от импорта. Несмотря на то что Джорджа Вашингтона весьма беспокоили «пышность, изнеженность и коррупция», вечные признаки коммерческого государства, он соглашался с Гамильтоном относительно того, что «дух коммерции, заполняющий наше государство, ни в коей мере не следует обуздывать»(5).
Возглавляемые Гамильтоном федералисты призывали к повышению импортных тарифов и государственным субсидиям как мерам, необходимым для ускорения индустриализации. Гамильтон хотел учредить федеральную банковскую систему, надеялся создать класс богатых инвесторов, активно оперирующих общественными финансами, и накопить средства для капиталовложений. Республиканцы опасались, что федеральный банк породит коррупцию и сосредоточит капиталы в руках элиты. Гамильтон возражал, указывая, что банковская система поможет обрести национальное единство, поскольку будет контролировать действия как отдельных штатов, так и частных кредиторов. Федералисты также противились дальнейшему движению на Запад, опасаясь, что это движение помешает индустриализации и ослабит как мощные государственные институты, так и национальное единство, которого добивался Гамильтон.
Спор Гамильтона с Джефферсоном разрешился в большей степени благодаря прошествию достаточного количества времени, нежели нахождению компромисса. Индустриализация и коммерциализация Соединенных Штатов вскоре превратили джефферсоновскую идею аграрной Америки в анахронизм. Впрочем, «взросление» американской экономики не привело к прекращению дебатов о степени влияния экономики на политическую жизнь страны.
Подхватив идеи Джефферсона, демократы времен Джексона в 1830—1840-е годы обеспокоились растущей концентрацией могущества и влияния в руках коммерсантов, промышленников и банкиров. Неуклонно сокращая политическую значимость рабочих, ремесленников и фермеров, политическая и финансовая элиты угрожали жизнеспособности американской демократии. Федералисты же, которые к тому времени стали называть себя вигами, утверждали, что крупномасштабные инвестиции в дороги, железнодорожный транспорт и систему государственного образования должны ускорить экономическое развитие страны и рост национального единства. Как писала одна газета: «Железные дороги суть истинные узы единения, как социального, так и национального»(6).
К середине 1800-х годов центральной темой дебатов об экономической политике страны стала проблема рабства, возродившая давний спор о взаимосвязи республиканской формы правления и экономического производства. Южане пытались сохранить рабство, дабы защитить свой достаток и аграрный жизненный уклад, и провозглашали, что рабство – зло гораздо меньшее по сравнению со складывающейся на Севере системой наемного труда. Сенатор Джеймс Генри Хэммонд из Южной Каролины заявлял, что рабочие-северяне становятся рабами индустриального капитала: «Разница между нами состоит в том, что мы нанимаем рабов пожизненно и обеспечиваем их всем необходимым; у нас нет ни голода, ни нищеты… А вы нанимаете своих на сутки, не заботитесь о них и не обеспечиваете им достойной жизни»(7).
Северные аболиционисты отвечали, что рабство аморально и в корне противоречит основам политического строя Америки. Однако большая часть се-верян противилась рабству по гораздо более прозаичной, прагматической причине: распространение рабства лишало наемных работников стимула к движению на Запад и обретению самостоятельности. Хотя многие северяне приняли наемный труд, они рассматривали этот феномен как этап на дороге к самостоятельной занятости и экономической независимости. Как объяснял представитель республиканской партии: «Молодой человек поступает на службу – или, если угодно, нанимается на службу – за соответствующую плату и служит, пока не накопит достаточно средств, чтобы приобрести собственную ферму… Вскоре он из наемника становится нанимателем»(8). Новые сельскохозяйственные угодья предлагали тем, кто решил двинуться на Запад, возможность создать собственное аграрное хозяйство, а тем, кто оставался на индустриализирующемся Востоке, сулили повышение доходов и улучшение условий труда(9). Поэтому отмена рабства являлась ключевой для сохранения экономической базы независимого труда, гражданского достоинства и республиканских идеалов.
В десятилетия после окончания Гражданской войны, когда происходила бурная индустриализация страны, дебаты относительно гражданских прав класса независимых производителей сменились дискуссиями о защите фабричных рабочих и дурном влиянии индустриализации на республиканскую форму правления. Лидеры профсоюзов предложили закон, ограничивавший продолжительность рабочего дня восемью часами. Это объяснялось стремлением сохранить чувство собственного достоинства наемных работников и обеспечить им свободное время для исполнения гражданских обязанностей. Конгресс и суды приступили к рассмотрению антитрестовского законодательства, в надежде остановить крупные монополии, набиравшие власть за счет ущемления интересов рабочей Америки.
Президентские выборы 1912 года показали, каким образом можно лавировать среди политических и социальных последствий индустриализации и требований республиканского правительства. Основные дискуссии во время этой кампании напомнили дебаты Джефферсона и Гамильтона. Вудро Вильсон, кандидат от демократов, выступал в поддержку экономической децентрализации, в защиту малых предприятий и независимых работников и за сохранение «коммунального» образа жизни. Если будущие поколения «откроют глаза в Америке, где им придется выбирать между наемным трудом и ничем, – говорил Вильсон, – они окажутся в Америке, которую наверняка оплакали бы отцы-основатели»(10). Теодор Рузвельт, кандидат «прогрессистов», возражал: влияние корпораций на экономику стало реальностью; единственный способ ослабить его – наличие сильного правительства и федеральных законов. Вместо того чтобы сопротивляться «централизующим» эффектам индустриализации, правительство должно «приручить» эти эффекты во имя укрепления национального единства и социальной сплоченности. По Рузвельту, именно «могучий дух амбициозного национализма», а не гражданские добродетели самостоятельного работника послужит основой республиканской формы правлении(11).
Несмотря на то что на выборах победил Вильсон, обошедший как Рузвельта, так и Уильяма Говарда Тафта, действующего президента и кандидата от республиканской партии, рузвельтовское представление об американской экономической политике, как выяснилось впоследствии, более соответствовало реальности. Две мировые войны не только ускорили развитие индустриального общества в США, но и привели к возникновению нового американского национализма, основанного на общественном долге, гражданских обязанностях и социальной сплоченности. Эра индустриального капитализма, республиканской демократии и национализма – эпоха величия Соединенных Штатов Америки – вступила в пору расцвета.
ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН
Принципиальное влияние экономической деятельности на политическую жизнь страны просматривалось не только в Соединенных Штатах Америки. Движитель исторического прогресса – развитие доминирующего способа производства товаров и его воздействие на институты управления и общественной идентичности. Даже при условии что экономические трансформации в подавляющем большинстве случаев способствуют прогрессу общества, исторические изменения носят одновременно эволюционный и циклический характер. Конкретный способ производства приводит к возникновению конкретной формы управления и конкретной формы общественной идентичности; эти три фактора определяют ту или иную эпоху в истории человечества. При этом развитие способа производства постепенно приводит к деле-гитимизации порожденных им политических и социальных институтов, завершая тем самым одну эру и начиная следующую. Как писал Стивен Джей Гулд в своей книге о геологической эволюции: «История циклична, но неумолимо движется вперед»(12).
В таблице представлены основные исторические эры и указаны присущие каждой из них экономические, политические и социальные характеристики. Логика исторического процесса, исторической эволюции неумолима(13): способ производства определяет историю, поскольку порождает фундаментальный механизм удовлетворения основных человеческих потребностей и желаний. Образ, каким люди удовлетворяют свои потребности, порождает соответствующие формы управления и общественные идентичности. В кочевую эпоху охотники объединялись в небольшие группы, управление которыми зиждилось на принципе неформального большинства. Общественную идентичность обеспечивали родственные связи и примитивный анимизм.

В аграрную эпоху оседлые поселения, увеличиваясь в размерах, порождали правящий класс, который управлял остальными членами сообществ, и общепринятую религию, которая обеспечивала общественную идентичность и социальную сплоченность. В индустриальную эпоху экономическая и политическая активность масс содействовала возникновению республиканской демократии, каковое логично сопровождалось укреплением национализма – источника общественной идентичности и социальной сплоченности, необходимых для легитимизации демократического государства.
Циклически-эволюционный характер истории обусловлен обратной связью между способом производства и политическими и социальными институтами. К примеру, прогресс в сфере культивации и орошения земель привел к оседлой общественной жизни и связанной с ней социальной дифференциации. Появление духовенства, государственной бюрократии, а также купеческого сословия способствовало распространению грамотности и зарождению интеллектуальной и коммерческой элиты. Научные и технологические достижения, осуществленные последней, вкупе с ростом политического влияния купечества, постепенно трансформировали аграрное общество и открыли дорогу к обществу индустриальному. Все эти циклы способствуют кумулятивному историческому прогрессу путем естественного отбора. По мере развития способа производства и «аккомпанирующего» ему развития политических и социальных институтов общества приобретают все больше возможностей поддерживать свое существование и защищать себя, что и позволяет им сменять предшествующие общества.
На рис. 3 показана историческая эволюция, обусловленная изменением способа производства и последующйм развитием и упадком политических и социальных институтов.

Ниже приводится упрощенное в целях наглядности и наилучшего понимания описание процесса с точки зрения теории исторических изменений(14).

