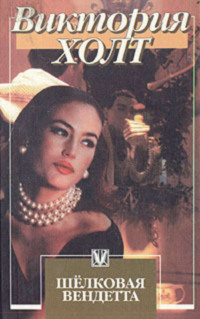полная версия
полная версияКирклендские забавы

Виктория Холт
Кирклендские Забавы
1
Я встретила Габриеля и Пятницу в один и тот же день и, по странному совпадению, потеряла их тоже одновременно; может быть, поэтому в моей памяти они нераздельны. Они вошли в мою жизнь, требуя внимания и опеки, и неудивительно, что я к ним привязалась. До того момента я заботилась только о себе, и мне было приятно сознавать, что кто-то другой нуждается в моей заботе. Никогда раньше у меня не было ни возлюбленного, ни собаки, и я всем сердцем приветствовала их появление.
Тот день я помню во всех подробностях. Стояла весна, свежий ветерок гулял по равнине. После завтрака я отправилась кататься верхом и, как всегда, отъехав от Глен-Хауса, испытала чувство освобождения. Чувство это было неизменным спутником моих прогулок с тех пор, как я вернулась домой из пансиона в Дижоне; вероятно, оно было мне знакомо и в детстве, а теперь просто обострилось.
Мой дом был мрачен и уныл, да и могло ли быть иначе, если в нем царили воспоминания о давно умершем человеке? В первые же дни после приезда я твердо решила, что никогда не буду жить прошлым. Что бы со мной ни случилось, – я не стану оглядываться. Так, еще совсем юной – мне в ту пору исполнилось девятнадцать лет – я усвоила очень важное правило: надо жить настоящим, не озираясь назад и не забегая вперед.
Только теперь я понимаю, что была легкой добычей для поджидавшей меня судьбы.
За полтора месяца до того дня, с которого начинается мое повествование, я возвратилась под отчий кров из пансиона, где провела четыре года. За все эти годы я ни разу не побывала дома: путешествие из Дижона в Йоркшир было долгим и накладным, ведь мне пришлось бы пересечь пол-Франции и пол-Англии, а мое образование и без того обходилось недешево. В разлуке родной дом рисовался мне в несколько идеализированном виде, и расцвеченный воображением образ настолько отличался от реальности, что по возвращении я испытала настоящее потрясение.
Путь из Дижона до Лондона я проделала в обществе своей подруги Дилис Хестон-Браун и ее матери, ибо молодой леди не пристало пускаться в столь длительное путешествие в одиночку. Миссис Хестон-Браун отвезла меня на вокзал Сент-Пэнкрас, усадила в вагон первого класса и убедилась, что я благополучно доеду до Хэрроугейта, где меня встретят.
Я ожидала увидеть на станции в Хэрроугейте отца или дядю – впрочем, если бы дядя Дик не был в плавании, он бы не поленился приехать за мной в Дижон. Но у двуколки меня ждал Джемми Белл, отцовский конюх. За прошедшие годы Джемми изменился: высох, сморщился и одновременно помолодел. Это было мое первое маленькое потрясение, первое столкновение воспоминаний и действительности.
При виде моего чемодана Джемми присвистнул и улыбнулся.
– Вот это да, мисс Кэти, – сказал он. – Похоже, вы стали настоящей молодой леди.
От его слов на меня снова повеяло прошлым. В Дижоне меня называли «Катрин» или «мадемуазель Кордер», и обращение «мисс Кэти» звучало непривычно.
Джемми ошеломленно разглядывал мое дорожное платье из бутылочно-зеленого бархата с модными рукавами, широкими сверху и узкими в запястьях, соломенную шляпку, украшенную веночком из маргариток и слегка надвинутую на лоб. Мой облик явно произвел на него большое впечатление – в нашей деревне нечасто увидишь даму, одетую по последней моде.
– Как отец? – спросила я. – Я думала, он приедет меня встретить.
Джемми выпятил нижнюю губу и покачал головой.
– Хозяин мается подагрой, – объяснил он, – ему такой тряски не вынести. Да и потом…
– Что? – резко осведомилась я.
– Видите ли… – Джемми явно колебался. – Он еще не совсем оправился после приступа…
От памятных с детства слов у меня внутри все сжалось. «Не шумите, мисс Кэти, у вашего батюшки приступ…» Эти приступы захлестывали наш дом со зловещей регулярностью, вынуждая всех ходить на цыпочках и разговаривать шепотом. Отец надолго исчезал, а когда появлялся снова, его лицо было бледнее обычного, вокруг глаз лежали глубокие тени; он не слышал, когда к нему обращались, и я боялась его. За годы, проведенные вне дома, я позволила себе забыть об этих приступах.
– А дядя не вернулся? – торопливо спросила я. Джемми отрицательно помотал головой.
– Уж полгода, как мы его не видали. И еще полтора не увидим.
Я кивнула. Дядя Дик был морским капитаном, в своем последнем письме он сообщил мне, что надолго отправляется в плавание. Меня охватила тоска. Без дяди Дика мое возвращение было совсем невеселым.
Двуколка неторопливо катила по знакомой дороге, а я размышляла о доме, в котором жила, пока дядя Дик не решил, что пора отправить меня в пансион. Рассказывая школьным подругам об отце, я наделяла его чертами дяди Дика, описывая свой дом, я выметала из него старую паутину и впускала в комнаты солнечный свет, – это был не дом моего детства, а дом моей мечты.
Но время мечтаний кончилось, пришло время взглянуть в глаза реальности.
– Что-то вы все молчите, мисс Кэти, – заметил Джемми. Он был прав – я не испытывала желания разговаривать.
Множество вопросов готово было сорваться с моего языка, однако я сдерживалась, ибо понимала, что ответы Джемми едва ли удовлетворят мое любопытство. Я должна была увидеть все собственными глазами.
Мы ехали по аллеям, иногда столь узким, что ветви деревьев грозили сбить шляпку с моей головы. Но я помнила, что скоро окружающий пейзаж изменится: аккуратные поля и тесные аллеи уступят место просторным пустошам; лошадка побежит в гору, и я вдохну запах вереска и болот.
При этой мысли я испытала острую радость и поняла, что соскучилась по родным местам.
Заметив мой повеселевший вид, Джемми сказал:
– Уже недалеко, мисс Кэти.
А вот и наша деревня, Гленгрин. До названия городка она не дотягивает – домишки, сгрудившиеся вокруг церкви, гостиница, общинный выпас, несколько коттеджей. Миновав церковь, мы въехали в беленые ворота, и вскоре в конце аллеи возник Глен-Хаус – неожиданно маленький, с опущенными жалюзи, сквозь которые виднелись кружевные занавески. А за занавесками наверняка висели еще и толстые бархатные шторы, не пропускавшие свет.
Будь дома дядя Дик, он бы раздвинул шторы, поднял жалюзи, и Фанни ворчала бы, что мебель выцветет от солнца, а отец, он не замечал бы ее жалоб.
Не успела я выбраться из экипажа, как на крыльце появилась Фанни. Кругленькая, крепко сбитая йоркширка, она явно родилась хохотушкой, но, по-видимому, долгие годы службы в нашем доме отучили ее веселиться.
Окинув меня критическим взглядом, она заявила:
– Вы там совсем отощали, в этом пансионе.
Я улыбнулась. Славное приветствие из уст женщины, с которой я не виделась четыре года и которая с детства заменяла мне мать. Однако ничего другого я и не ожидала: Фанни никогда не сюсюкала и любые проявления нежности называла «дуростью» Она давала волю своим чувствам, только когда могла выразить неодобрение. Но это не мешало ей окружать меня заботой, следить, чтобы я была вовремя накормлена и тепло одета. Кружев, оборочек и прочих «финтифлюшек», по выражению Фанни, мне носить не позволялось. Фанни гордилась своей откровенностью и прямотой, зачастую граничащей с грубостью. Ценя безусловные достоинства Фанни, я тосковала по нежности, пусть даже не вполне искренней. Сейчас все эти воспоминания разом нахлынули на меня. Фанни тем временем разглядывала мое платье, и рот ее скептически кривился. Редко улыбавшаяся от удовольствия, она всегда была готова на презрительную насмешку.
– Так вот, стало быть, что носят в тамошних краях? – изрекла она, и губы ее снова дрогнули.
Я сдержанно кивнула.
– Отец дома?
– Ба, да это же Кэти… – Это был отцовский голос, и сам он уже спускался по лестнице в холл, – бледный, глаза в темных кругах. Мне вдруг подумалось: у него такой потерянный вид, будто он чужой в этом доме, да и вообще в этой эпохе.
– Отец!
Мы обнялись, но отцовская приветливость была напускной, неискренней. Мне показалось, что он вовсе не рад моему возвращению, что без меня ему было лучше и он предпочел бы, чтобы я осталась во Франции.
Стоя в сумрачном холле, не проведя в родительском доме и пяти минут, я ощутила тоску и желание убежать.
Ах, если бы здесь был дядя Дик, я чувствовала бы себя совсем по-другому…
Дом сомкнулся вокруг меня. Оказавшись в своей комнате, я первым делом подняла жалюзи, впустив солнце, и распахнула окно. Отсюда, с верхнего этажа, открывался чудесный вид на вересковую пустошь, и настроение у меня немного улучшилось. Окружающий пейзаж совсем не изменился и по-прежнему восхищал меня; я вспомнила, как в детстве любила скакать здесь на своем пони, пусть даже в сопровождении одного из конюхов. Когда дядя Дик бывал дома, мы выезжали вдвоем и пускали лошадей в галоп, так что ветер свистел в ушах. Случалось, мы заглядывали в кузницу Тома Энтвистла подковать лошадь, и я сидела на высоком табурете, вдыхая едкий дымный запах и отхлебывая из стакана домашнее вино. От вина голова у меня слегка кружилась, и это очень веселило дядю Дика.
– Ох и шутник же вы, капитан Кордер, – говорил ему тогда Том Энтвистл.
Дяде Дику хотелось воспитать меня по своему образу и подобию, а поскольку и я мечтала о том же, мы с ним отлично ладили.
Вспомнив былые прогулки, я решила завтра же отправлюсь на пустошь… на сей раз – одна.
Каким же длинным показался мне тот первый день! Я обошла дом, заглядывая во все комнаты – сумрачные комнаты с занавешенными окнами. У нас было две служанки – обе уже немолодые, они казались бледными копиями Фанни, что, впрочем, было неудивительно, ведь она сама выбрала и вышколила их. Двое младших конюхов помогали Джемми Беллу, они же ухаживали за садом. Мой отец не имел профессии, он был тем, что обычно называется джентльменом. С отличием закончив Оксфорд, он некоторое время преподавал, потом увлекся археологией и занимался раскопками в Греции и Египте, первое время после свадьбы моя мать сопровождала его в этих поездках, но перед моим рождением они осели в Йоркшире, отец собирался писать научные труды по археологии и философии, кроме того, у него был талант к живописи. Дядя Дик частенько говаривал, что мой отец, на беду, слишком одарен, в то время как у него, дяди Дика, не было выбора, вот он и стал простым моряком.
Как часто я жалела, что дядя Дик не мой отец!
Дядя жил с нами в перерывах между плаваниями. Он навещал меня в пансионе. Помню, как он стоял в прохладной приемной с белеными стенами, куда его провела мадам директриса, – ноги расставлены, руки в карманах, на лице уверенность победителя. Мы с ним очень похожи, и я убеждена, что под дядиной бородой скрывается подбородок столь же острый, как мой.
Когда я подошла, он сгреб меня в охапку и поднял высоко, словно маленькую девочку. Впрочем, не сомневаюсь, что он будет проделывать то же самое, и когда я стану древней старушкой. Таким способом он выражает свою любовь ко мне.
– Тебя здесь не обижают? – спросил он, и в глазах его вдруг сверкнула готовность разделаться с любым, кто осмелится плохо со мной обойтись.
Усевшись в наемный экипаж, мы отправились в город, побывали в модных магазинах и купили мне новые платья: дядя видел нескольких девочек из моего пансиона, и ему показалось, что они одеты элегантнее, чем я. Милый дядя Дик! После этого он стал присылать мне щедрое содержание, благодаря которому я и вернулась домой с полным чемоданом нарядов, сшитых, как уверяла дижонская couturiere[1], по последней парижской моде.
Однако сейчас, стоя у открытого окна и глядя на пустошь, я понимала, что одежда мало влияет на характер человека. Даже модные парижские туалеты не делали меня похожей на моих школьных подруг. Дилис Хестон-Браун предстоял первый в ее жизни лондонский светский сезон; Мари де Фрес войдет в парижское высшее общество. Мы были особенно близки и, расставаясь, поклялись друг другу в верности до гроба. Но я уже начала сомневаться, суждено ли нам еще когда-нибудь встретиться. Должно быть, сказывалось влияние Глен-Хауса и окружавших его суровых равнин: здесь приходилось смотреть в лицо правде, какой бы неприятной и неромантичной она ни была.
Первый день тянулся бесконечно. Путешествие из Дижона было таким интересным, наполненным впечатлениями, а здесь, в угрюмой тишине дома, казалось, ничто не изменилось со времени моего отъезда. Если же перемены и были, то объяснялись они только тем, что я теперь смотрела на все глазами не ребенка, а взрослой женщины.
Ночью я никак не могла уснуть. Лежа в постели, я размышляла о дяде Дике, об отце, о Фанни, о слугах. Как странно, что отец женился и имел дочь, а дядя Дик остался холостяком… В детстве я часто замечала, как Фанни поджимала губы при упоминании о дяде Дике, показывая, что не одобряет его образ жизни и испытывает тайное удовлетворение при мысли, что он плохо кончит. Теперь я догадывалась, что она имела в виду. Если у дяди Дика не было жены, это отнюдь не означало, что он не интересовался женщинами. Помню, как лукаво блестели его глаза при виде дочери Тома Энтвистла, которая, по слухам, не была недотрогой. Да и вообще я частенько перехватывала многозначительные взгляды, которыми мой дядюшка обменивался с дамами.
Однако детей у него не было, поэтому неудивительно, что, жадный до жизни, он изливал нерастраченное отцовское чувство на дочь своего брата.
Готовясь ко сну, я внимательно изучила свое отражение в зеркале. Мерцание свечей смягчило черты моего лица, так что оно казалось если и не красивым и даже не хорошеньким, то по крайней мере привлекательным. Зеленые глаза. Прямые черные волосы тяжелой волной окутывают плечи. Жаль, что мне приходится заплетать волосы в две косы и укладывать вокруг головы, – распущенные идут мне намного больше. Лицо у меня бледное, с высокими скулами и воинственно заостренным подбородком. Пожалуй, правду говорят, что жизнь накладывает отпечаток на внешность человека. Мое лицо было лицом бойца. Сколько я помню, всю свою жизнь я сражалась. Оглядываясь на свое детство, я вспомнила дни, когда дядя Дик бывал в плавании, – а таких дней было большинство. Крепкая девочка с толстыми темными косами и дерзкими глазами, я вносила дух воинственности в наш тихий дом, видимо, подсознательно чувствуя, что лишена чего-то, и протестуя всеми доступными мне способами. В школе, слушая рассказы о чужих семьях, я поняла, чего именно я так неистово и так тщетно добивалась. Я нуждалась в любви. Единственным, кто отчасти утолял эту мою потребность, был дядя Дик, но его чувства проявлялись шумно и бурно, а мне не хватало нежного, ровного родительского тепла.
Возможно, в ту первую ночь дома я еще не осознавала этого так ясно; возможно, понимание пришло ко мне позднее; возможно, это было не более чем оправдание моего головокружительного романа с Габриелем.
Однако кое-что я тогда все-таки узнала. Хотя заснуть по-настоящему мне удалось только под утро, среди ночи я задремала и, услышав странный крик, решила, что он мне пригрезился.
– Кэти! – молил чей-то голос, исполненный страдания и боли. – Кэти, вернись…
Я была поражена – не тем, что услышала свое имя, а печалью и мукой, с которыми кто-то произносил его. Сердце мое громко билось, – это был единственный звук, нарушавший царившее в доме безмолвие.
Приподнявшись в постели, я прислушалась. И мне вдруг вспомнился подобный случай, произошедший еще до моего отъезда во Францию. Тогда я тоже проснулась среди ночи оттого что кто-то звал меня по имени!
Меня вдруг охватила дрожь. Так значит, это был не сон, – кто-то и вправду звал меня.
Выбравшись из кровати, я зажгла свечу и подошла к открытому окну. Хотя считалось, что ночной воздух вреден и что на ночь окна надо плотно затворять, я нарушила это правило, изголодавшись по свежему воздуху родных мест. И вот теперь я высунулась наружу и взглянула вниз, на окно прямо под моим. Там располагалась отцовская спальня.
И тут я догадалась, что за крик разбудил меня сегодня, а также в ту давнюю ночь, это кричал во сне мой отец. Он звал Кэти.
Моя мать носила то же имя, что и я, – Кэтрин. Мои воспоминания о ней весьма смутны, это скорее не образ, а ощущение. А может, я вообще все придумала? Помню, как она крепко прижала меня к груди – до того крепко, что мне стало трудно дышать и я заплакала. А потом все кончилось, и я никогда больше ее не видела, и никто больше не обнимал меня – потому, как мне казалось, что я тогда протестующе закричала в ответ на материнскую ласку.
Так вот в чем причина печали моего отца… Неужели после стольких лет он все еще тоскует об умершей? Должно быть, какими-то своими чертами я напоминаю ему ее; это вполне естественно, и наверняка в этом все дело. Видимо, мой приезд вызвал к жизни образы прошлого, былые страдания, которые он никак не мог забыть.
Как долго тянулись дни, как безрадостна была жизнь в нашем доме! Его обитатели были уже немолоды, они принадлежали прошлому. В моей душе зашевелился былой протест. Я ощущала себя чужой.
С отцом мы встречались только за столом, потом он удалялся в кабинет работать над книгой, которая едва ли когда-нибудь будет завершена. Фанни сновала по дому, отдавая приказания жестами и взглядами; она была неразговорчивой особой, однако могла весьма красноречиво щелкнуть языком или надуть губы. Слуги боялись Фанни, ведь они были в ее власти. Она держала их в страхе, то и дело напоминая, что старость не за горами и что в таком возрасте им будет трудно найти другое место.
На безупречно натертой мебели не было ни пылинки, кухня дважды в неделю наполнялась запахом свежевыпеченного хлеба, идеально налаженное хозяйство работало как часы. Я просто мечтала о беспорядке.
Я скучала по пансиону. По сравнению с теперешним серым существованием жизнь в Дижоне казалась полной увлекательных событий. Я вспоминала комнату, в которой жила с Дилис Хестон-Браун; двор под окнами, откуда постоянно доносился гомон девичьих голосов; звонки, созывающие на уроки и дающие ощущение причастности к оживленной общей жизни; наши секреты и розыгрыши; печальные и забавные происшествия, представлявшиеся мне теперь захватывающими и необыкновенными.
За четыре года обучения сердобольные родители Дилис несколько раз приглашали меня провести с ними каникулы. Однажды мы ездили в Женеву, другой раз – в Канны. Во время этих путешествий самое большое впечатление на меня произвела не красота Женевского озера, не синева лазурнейшего из морей на фоне Приморских Альп, а теплота отношений между Дилис и ее родителями, которая ей казалась естественной, а меня наполняла острой завистью.
Впрочем, теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что лишь изредка испытывала чувство одиночества, по большей части я гуляла, каталась верхом, купалась и играла с Дилис и ее сестрой так, словно была членом их семьи.
Однажды, когда все разъехались на каникулы, учительница взяла меня с собой на неделю в Париж. Эта поездка сильно отличалась от путешествий с веселой, легкомысленной Дилис и ее снисходительными родителями, ибо мадемуазель Дюпон поставила себе цепью приобщить меня к ценностям культуры. Теперь я со смехом вспоминаю ту изнурительную неделю; долгие часы, проведенные в Лувре среди шедевров старых мастеров; экскурсию в Версаль на урок истории. Мадемуазель твердо решила, что ни одна минута не должна быть потрачена зря. Но ярче всего мне запомнилась фраза, сказанная ею обо мне в разговоре с матерью: она назвала меня «бедной малышкой, которая осталась в школе на каникулы, потому что ей некуда поехать»
Эти слова расстроили меня и вызвали чувство беспросветного одиночества. Я никому не нужна! Моя мать умерла, а отец не хочет меня видеть. Но, как бывает в детстве, скоро я забыла о своем отчаянии, очарованная живописностью Латинского квартала, волшебством Енисейских Полей, а также витринами на рю де ла Пэ.
Причиной этих ностальгических размышлений стало письмо, полученное от Дилис. Она готовилась к выходу в свет, и жизнь казалась ей прекрасной.
«Дорогая Кэтрин, с трудом улучила минутку, чтобы написать тебе. Давно собиралась, но все время что-то мешало. Кажется, я целые дни провожу у портнихи, без конца что-то примеряю. Если бы ты видела платья, которые она для меня шьет! Мадам умерла бы от ужаса. Но мама непременно хочет, чтобы мое появление произвело фурор. Она составляет список приглашенных на мой первый бал. Уже сейчас, вообрази! Как жаль, что тебя не будет. Пожалуйста, сообщи мне о себе…»
Я представила себе Дилис и ее родителей, их дом в Найтсбридже – возле парка, с конюшнями в глубине двора. Как же ее жизнь не похожа на мою!
Я села за ответное письмо, но мне было нечего сообщить Дилис, разве что излить свою скуку и тоску. Едва ли Дилис поймет, каково это – не иметь матери, озабоченной твоим будущим, и страдать от равнодушия отца, погруженного в собственные переживания и просто не замечающего твоего присутствия в доме.
Письмо Дилис так и осталось без ответа.
С каждым днем дом казался мне все более невыносимым, и я все больше времени проводила на пустоши, катаясь верхом. Фанни презрительно хмыкнула при виде моей амазонки – последнего крика парижской моды, подарка дяди Дика, – но мне было все равно.
Однажды Фанни сообщила мне:
– Твой отец сегодня уезжает.
Лицо ее было замкнуто и бесстрастно, и я не сомневалась, что она намеренно придала ему такое выражение. Не знаю, одобряла она или порицала отъезд отца, но она несомненно что-то от меня скрывала.
Отец и раньше время от времени куда-то уезжал, возвращался только на следующий день и запирался в своей комнате, куда ему подавали еду. Появлялся он оттуда совершенно разбитый и еще более молчаливый, чем обычно.
– А, помню, – сказала я Фанни. – Так он по-прежнему… уезжает?
– Регулярно, – ответила Фанни. – Раз в два месяца.
– Фанни, а куда он ездит? – серьезно осведомилась я. Фанни пожала плечами, давая понять, что это не ее и не моего ума дело; однако у меня осталось ощущение, что она знает.
Целый день эта загадка не шла у меня из головы. И вдруг меня осенило: ведь отец не так уж стар – ему, наверное, лет сорок Должно быть, он еще нуждается в женском обществе, хотя и не женился второй раз. Я пришла в восторг от собственной проницательности. Мы часто обсуждали эти волнующие темы с подругами по пансиону, многие из которых были француженками, а значит, превосходили осведомленностью нас, англичанок, – и мнили себя современными, умудренными в житейских делах особами. Вот я и решила, что у отца есть любовница, которую он регулярно посещает, но на которой не может жениться, ибо ни одна женщина не способна заменить в его жизни мою мать; а его мрачное настроение по возвращении объясняется угрызениями совести – ведь он все еще любит давно умершую жену и чувствует, что оскорбил ее память.
Отец возвратился назавтра к вечеру и вел себя, как всегда в подобных случаях Я его не видела, но знала, что он у себя в комнате, что к столу он не выходит и что ему носят наверх подносы с едой. Когда же наконец он спустился к завтраку, на его лице было такое убитое выражение, что мне захотелось его подбодрить.
В тот же вечер за обедом я сказала:
– Папа, ты не заболел?
– Заболел? – Его брови горестно сдвинулись. – Почему ты так решила?
– Ты такой бледный и измученный… и, мне кажется, у тебя тяжело на душе. Не могу ли я помочь тебе? Ведь я уже не ребенок.
– Я не болен, – проронил – он, избегая смотреть на меня.
– В таком случае…
Заметив на его лице признаки раздражения, я осеклась. Но потом решила, что ему не удастся так легко от меня отделаться. Он нуждается в поддержке, и мой дочерний долг состоит в том, чтобы оказать ее.
– Вот что, папа, – отважно заявила я, – по-моему, у тебя неприятности, и я уверена, что могла бы помочь.
Он взглянул на меня, и досада в его глазах сменилась холодностью. Мне стало ясно, что отец намеренно ставит барьер между нами, что моя настойчивость ему неприятна и кажется праздным любопытством.
– Дорогое дитя, – пробормотал он, – у тебя разыгралось воображение, – и, взявшись за нож и вилку, снова принялся за еду, всем своим видом показывая, что разговор окончен.
Никогда еще я не чувствовала себя такой ненужной.
После этого случая наши отношения стали еще более натянутыми. Часто отец вообще не отвечал, когда я к нему обращалась. Слуги говорили, что у него снова «приступ»
Пришло еще одно письмо от Дилис, в котором она упрекала меня за молчание. Стиль ее писем в точности отражал ее манеру говорить: короткие предложения, жирно подчеркнутые слова, восклицательные знаки напоминали ее вечно взволнованный, задыхающийся голос. Она учится делать реверансы, берет уроки танцев – близится великий день. Какое счастье избавиться от опеки мадам и чувствовать себя не жалкой школьницей, а молодой светской дамой.
Моя попытка ответить ей снова окончилась неудачей. Что я могла написать? «Я ужасно одинока. В нашем доме нет места веселью. О, Дилис, ты радуешься, что школьные годы кончились, а я, сидя здесь в печали и унынии, мечтаю вернуться в пансион!»