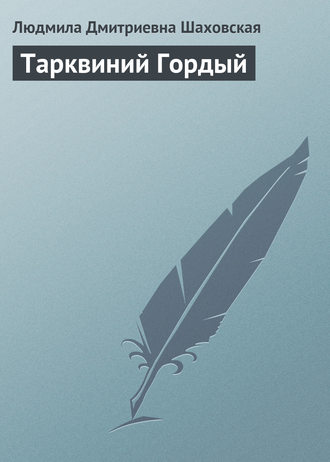 полная версия
полная версияТарквиний Гордый
– Ну, не болтай, Стерилла! – Перебила Амальтея с испугом, косясь на девочку.
– Чего не болтай!.. И лягушки-то об том давно все квакают.
– Об чем они квакают, Стерилла? – спросила Ютурна с величайшим интересом.
– А об том, госпожа, что пора ей быть в болоте; лягушки по ней соскучились; к себе ее зовут. Скажи твоему батюшке, что пора ее туда бросить и с ребенком ее.
– Скажу… скажу, чтобы и меня отпустил к лягушкам; весело у них, Стерилла?
– Ха, ха, ха!.. Очень весело!.. Если ты хочешь, госпожа, чтобы твой батюшка отпустил Амальтею к лягушкам, то скажи ему что она…
– А-те череп размозжу! – прервал глухой, дрожащий голос, и в плечи старой колдуньи впились сильные, молодые руки.
Обернувшись она увидела старшего брата Амальтеи, Прима. Он возвращался одиноко после всех с кладбища, оставленный там для каких-то починок. В руках его были клещи, гвозди, огромный молоток и веревка.
– Посмей сказать, про что не надо! – говорил он замахнувшись. – Я тебя сейчас столкну в трясину, где тебе самое надлежащее место, бабушка. Губишь ты добрых людей ни за что, ни про что, морочишь, мутишь во всем околотке… и помяни мое слово!.. Дождешься, что кто-нибудь рассчитается за нас всех, за все, что ты с дочерью здесь у нас начудесила!..
Пока он говорил, Стерилла опомнилась от внезапного испуга, вырвалась, присевши из-под руки юноши, и заговорила твердо и веско, точно отчеканивая слова.
– Что это я хочу сказать такое? Не слышав ровно ничего, он мне разбивать голову собирается!.. Да ты, парень, сначала узнай в чем дело-то! Маленькая госпожа балуется, ну и я хотела пошутить с нею, хотела сказать, что твоя сестра самая лучшая невеста, хотела жениха ей посватать, самого царя лягушек, Сильвина-Инву, давно он ее у меня просит… а! Готов!.. Ха, ха, ха!
Стерилла заметила, что Прим заснул стоя под влиянием устремленного на него ее магнетического взора вытаращенных огромных глаз. Она со смехом наложила ему на голову и на плечи болотной тины с травою, поместила и все его принесенные инструменты.
– Стой тут дураком, статуей окаменевшей, удалый молодец! – воскликнула она, кончив насмешку. – Стой, пьяный, бормочи, покачивайся, кажись всем пьянее отца твоего! Пусть господин-то отколотит тебя за мой испуг!
И она поплелась домой, довольная своею местью.
– Амальтея! – говорила между тем девочка, – ты слышишь, что говорит Стерилла? Сильвин за тебя сватается.
– Слышу, госпожа, – отозвалась молодая невольница с усмешкой, – пусть ее городит глупости!
– Это не глупости, Амальтея! Сильвин, стало быть, бросил сюда это ожерелье не мне, а для тебя. Если ты наденешь, станешь его невестой.
– Надену, надену, госпожа, если ты слезешь, наконец, с этого опасного дерева и придешь ко мне, принесешь подарок Сильвина.
– Вот он, гляди!
Упрямо не слезая с дерева, Ютурна перебросила цепь рабыне. Молодая женщина обомлела от страха. В деревянных побрякушках, шариках, подвесках, кисточках, она узнала сделанные ею и другими поселянками вещи для украшения корзины Сатуры, в которой недавно принесен в жертву, умерщвлен Балвентий, старый свинопас Турна. О нем ходила молва, будто он был колдуном, вследствие чего многие боялись его тени, носящейся над болотом, где его погубили.
Рассказ девочки о том, как это ей досталось, совершенно расстроил Амальтею, верившую как и все, в бытие всевозможных фантастических существ римской мифологии, боявшуюся их.
Ютурна, напротив, очень любила этот сказочный, волшебный мирок, веселую гурьбу божков-проказников, сатиров, сильвинов, дриад, ундин, нимф и др. полудухов, близких к людям, не бессмертных, а только очень долговечных, водящих хороводы по вершинам гор, поющих и танцующих на полянах лесов, бегающих по воде с волны на волну, летающих, прыгающих, обладающих знанием будущего и иными духовными способностями, веселую гурьбу, какою эти дети греко-римской фантазии изображались на стенных картинах, какими видала их Ютурна в домах отца, деда и других родных.
Она просидела на дереве, болтая детский сумбур, почти до самого обеда, и только голод вынудил ее спрыгнуть на землю.
Получение странного ожерелья, болтовня колдуньи, рассказ Грецина про пьяного Силена, все это при лепете любимой девочки легко навело Турна на мысль отдать Сильвину вместо дочери в жертву Амальтею с ее ребенком.
У Амальтеи есть отец и братья; они не посмеют противиться решению господина, но станут рыдать, обнимать его колена, умолять о пощаде молодой женщины и младенца, напоминать о своей долгой верной службе, причем Грецин имел еще ту привилегию, что был не совсем заурядный раб: он получил некоторое образование, ставившее его выше остальной прислуги; он был благородного происхождения из разрушенного Сибариса, только теперь это прозвище «сибаритский архонт» употреблялось относительно его в насмешку.
Турн решил обмануть этих людей, употребив средством совет самого Грецина.
– Ты, конечно, слышала, как в день похорон твоего дяди Авфидия Грецин говорил про царя Мидаса, советовал мне напоить Сильвина вином до пьяна, чтобы он открыл, кто убил нашего бедного Арпина.
Так сказал Турн уже к вечеру дочери, целый день говорившей ему про Сильвина и Стериллу.
– Я это слышала, отец, – отозвалась бойкая девочка, – но Грецин так советовал потому, что сам любит пить вино, если ты поставишь вино для Сильвина, Грецин будет тайком выпивать его.
– Мы посадим Амальтею с ребенком сторожить амфору в беседке.
– Хорошо! Но только и я буду сторожить, буду там играть и увижу Сильвина, как он напьется пьяным, а наши работники его, как Мидас Силена, неводом опутают, поймают.
Разговаривая с дочерью, Турн бессознательно выполнил внушение колдуньи, только ни она, ни он, ни руководивший всею интригою Руф не знали, кто теперь крылся под шкурой чудовища.
ГЛАВА VII
Отдаленный крик
Когда Прим, разбуженный прохожими поселянами, вернулся с гати домой, все решили, что он пьян, угощенный кем-нибудь по дороге с кладбища, но родные напрасно приставали к нему с расспросами об этом казусе, молодой человек упорно говорил одно и то же:
– Я ничего не пил, я пригрозил соседке Стерилле, что прибью ее за то, что привязалась с насмешками к моей сестре, и старая Ламия навела на меня столбняк.
Ультим хохотал над братом, а Грецин сам нетрезвый, ладил:
– Не показывайся таким господину! Поешь скорее капусты!
И он совал ему в руки кочан, от которого пред этим сам откусывал, потому что римляне издавна ели капусту, как средство от опьянения.
Другие слуги тоже не верили в колдовство, главным образом потому, что Амальтея, перебиваемая в беседке болтовнёю девочки и писком своего ребенка, не все слышала в переговорах брата с колдуньей, а главное, ей нельзя было как и Приму, объяснить самую сущность причин их ссоры, что старуха подучивала Ютурну донести о любви Амальтеи ко внуку фламина.
– Не знаю, за что она на нас злится, – отвечала эта молодая невольница на общие вопросы, – так с чего-то привязывалась, придиралась она ко мне, вы знаете, от этих соседей нам никогда никакого добра не бывало. Да и гать-то далеко от пролома. Я не все слышала, что эта старая ворона каркала там.
– А я слышала, – вмешалась Ютурна, – Стерилла говорила, что Сильвин за тебя сватается… и я сказала отцу, что она советовала отдать тебя ему, отпустить к лягушкам в болото, и отец сказал, что отдаст.
Из всех одна Эмилия поверила в случившийся казус.
– Говорила я вам, что эта баба порчи нам напустит. Так и вышло. – Заявила она, как неопровержимую аксиому, разводя руками и покачивая головой.
Приму быть бы битым неизбежно, потому что господин часто звал его к себе, поручая разные сельскохозяйственные дела, как трезвому и более толковому человеку, нежели его отец, в последние два года совсем, так сказать, опустившийся, одряхлевший, от разных семейных неприятностей.
Турн видел Прима, заметил издали, что тот как будто «не в порядке», но отогнал такую мысль, как странную, а потом помешал новый казус, на этот раз приятный – прибытие всеми любимого гостя, привезшего, однако, ужасные вести.
Солнце садилось. Расстроенный опасениями за дочь от всего случившегося, Турн, стоя на дворе усадьбы, резко, повелительно хлопнул в ладоши условный сигнал вызова управляющего.
Этот звук гулко повторили сумрачные своды глубокого вестибулума – крытой, широкой террасы парадного крыльца господского дома с толстыми каменными колоннами без капителей, примитивной, самобытной, латинской стройки, еще незнакомой с симметрией, соразмерностью, и другими условиями греческих архитекторов, отчего все здание казалось приземистым, тяжеловесным, мрачным, больше похожим на сарай или коровник, нежели на жилище вельможи.
– Где мои сыновья, Грецин? – спросил Турн, обращаясь к толстяку, появившемуся из Двери своей квартиры. – В такой сильный ветер неужели они охотятся?
– Не знаю, господин, – ответил управляющий с поклоном, – я не видел их с самого полудня, ты изволил приказать Амальтее караулить Амфору с вином, поставленную в беседке для Сильвина в жертву, а я, естественно, караулил мою дочь; я, право, боюсь, господин, как бы Инве женщина не показалась привлекательнее вина.
– А я боюсь, как бы мои сыновья не показались ему желательнее твоей дочери, леший такую бурю нагнал сегодня, что их, пожалуй, сдует с ног, сбросит в болото, прямо к нему в лапы или в пропасть с горной кручи.
– Эту бурю, я уверена, нагнала нам соседская экономка, – вмешалась Эмилия, – она ужасна, как ламия кошмара полуночных видений! Я ни за что больше не позову ее в наш дом, лучше вызову знахарку откуда-нибудь издалека. Ее горящие глаза точно провалившиеся в ямы, ее загнутый подбородок, стремящийся острием кверху соединиться с концом крючковатого носа, ее гнусавый голос – все это мерещится мне после наших поминок неотступно. Если бы я не любила Амальтею, я высекла бы ее за рекомендацию подобной ворожеи. Такую бабу и случайно-то встретить на дороге опасно, к беде это.
– Я полагаю, – перебил Грецин, – что молодые господа не отважатся идти теперь на открытое место. Впрочем, конечно, кто же им запретит, если даже твоя милость не всегда может их засадить дома за книгу или невод плести.
– А ты целый день просидел тоже с Амальтеей в беседке? – спросил Турн.
– Никак нет, господин, – возразил старик с некоторым страхом перед суровым помещиком, – у моей дочери есть там дело помимо приказа твоей милости сторожить жертву, она возится со своим ребенком и вышивает кайму для платья госпожи, а мне что там делать? Полны руки дела без того. Я засел, изволишь знать, в мою каморку сметы писать и счеты сводить; каморка в сад окном, я нет-нет да и выгляну, все видно, что там в беседке. Уж больно мальчик-то хорош! Золотой слуга вырастет для твоей милости!
– Пора тебе старшего сына женить, не то свободная ему полюбится, а этого чтобы у нас не было! Слышишь? От свободной мне пользы не будет, дети в деревне останутся на воле. Если ни одна работница ему не нравится, я ему сам жену выберу, новую пришлю, теперь с войны будет добыча немалая.
– Это как твоей милости угодно.
У Грецина навернулись слезы, но он не осмелился ни словом противоречить господину.
Турн, помолчав, снова заговорил про своих сыновей.
– Безрассудные! Как только вырвутся из города в деревню, с утра до ночи в лесу и болоте, не разбирая ни погоды, ни дороги, ни часов. Чует мое сердце, Грецин, что это болото когда-нибудь поглотит их, как поглотило моего дядю, когда я еще был маленьким, поглотило не мало и поселян и рабов; много там людей утонуло от своей неосторожности.
– Что же я должен делать, господин? Моих советов и остережений молодые господа не изволят слушать, – произнес старик с примесью горькой ноты в голосе. – Отдаляются от меня все больше и больше. Бывало шага без меня здесь не делают, а теперь поговаривают, будто для охоты с ними я стар, а для надзирания они из возраста вышли. Умоляю тебя, господин, не приказывай мне больше следить за ними, запрети им сам, твоей родительной властью, так шутить с нашею опасною топью. Вспомни предсказанье Диркеи, будто «блеск твоей славы может померкнуть в болоте».
– Да… Напрасно я тогда, в праздник Терры, прогнал дочь Стериллы с пустыми руками, не дал ей денег! Злая колдунья накаркала мне, как ворона к дождю, чего-то недоброго: всего-то я уж не помню, но общий тон и смысл ее тогдашних завываний не дает мне спокойно спать. Вот уже и начались беды: погиб так ужасно мой зять на Тарпее; в Риме своевольничает, превышая данную власть, Тарквиний. Он ненавидит меня по наветам Руфа, ненавидит и моего тестя, а мои сыновья…
– Еще раз умоляю тебя, господин, не поручай мне следить за ними! – перебил управляющий со смелостью старого служаки. – Запрети им так шутить с нашим болотом. Изволь сам посудить, долго ли тут до беды: погода ужасная, вихрь развоевался хуже эт… (он хотел сказать «этруска», но не посмел, вспомнив, что казненный зять его господина принадлежал к этому племени)… хуже сам… (но он вспомнил, что убитый неизвестно кем Арпин имел матерью самнитку)… хуже ру… (но рутулом был старинный царь, предок Турна, тетка его была за герником, сестра жены – за марсианином; римский вельможа тех времен обыкновенно роднился со всеми племенами Италии, какие становились на время союзниками Рима для отражения общих врагов)… хуже… то бишь, как его?.. самого Аквилона, который корабли опрокидывает. Может случиться землетрясение; отломится берег; ну, а тогда, сам знаешь: кто раз попал в нашу трясину, разве из нее выберется?
– Но все-таки их смелость нравится мне, – проговорил помещик с оттенком гордости, – в них сказываются наши предки, цари рутульские, а грядущее… кто же его может знать? С моими сыновьями случится лишь то, что угодно судьбе, а ее никто не избежит. Не могу же я запретить моим сыновьям ходить на охоту.
Лицо Турна приняло суровое, озабоченное выражение; он вздохнул от защемившего ему сердце предчувствия, в последнее время нередко мучившего его.
– Я не желаю запрещать моим сыновьям развивать в себе энергию и укреплять тело, – сказал он в раздумье, – ничто не закаляет человека лучше борьбы со зверями и стихиями. Я их браню только за неосторожность, за то, что они без надобности подвергают свою жизнь опасностям. Тебе известно, Грецин, что мы люди царского рода, наши предки…
Турн умолк, прервав речь на самом горячем месте тирады; он услышал отдаленный крик, вскоре повторившийся несколько раз с малыми промежутками.
И он и его управляющий, оба решили, что в болоте кто-то погибает, отчаянно зовет на помощь.
– Живо, Грецин! – вскричал помещик, испугавшись за сыновей. – Вели Приму взять вооруженных людей и идти за мною.
– Исполню, господин.
Поклонившись, толстяк поплелся будить старшего сына, который до сих пор не приходил в себя. Он угрюмо ворчал:
– Кого еще там леший дерет на болоте?! Надо этим господам жить тут в деревне зимою, когда, право, не до них нам!.. Самая горячая пора всяких работ на прохладе, а тут еще с ними возись, угождай, ублажай… эх! Рабство!
ГЛАВА VIII
Над болотной топью
Капуста, как видно, не всегда помогала. Прим явился заспанный, вялый, но Турн не обратил на это внимания, поглощенный идеей возможности гибели сыновей.
– Боги, спасите! – воскликнул он, подняв глаза к небу. – Обоих этих молодцов, Прима и Ультима, готов вам отдать в жертву за моих сыновей!..
Сердце Грецина облилось кровью при таком обете.
– А я отдал бы за моих сыновей всю его семью, с самим господином на придачу! – подумал он, но молчал, поникнув головою в горьком раздумье.
Скоро Турн и его свита, вооружившись шестами, ходулями, и другими приспособлениями для ходьбы по знакомому им болоту, торопливо шли в ту сторону, откуда раздавались крики.
Буря не ослабевала. Стало темно, вихрь ревел, врываясь в пещеры и горные углубления со свистом, похожим на стоны, заглушая временами повторявшиеся крики несчастного человека, попавшего в топь, сбивая с толка его избавителей.
Вечер наступал такой хмурый, ненастный, что даже вблизи идущие ничего не могли разглядеть, и только благодаря привычке к этой болотистой местности, не сбивались с неприметных взору тропинок.
Они скоро услышали вместо призывных криков радостный возглас и увидели приземистого молодого человека, который стоял подле лошади, стараясь успокоить ее, испуганно бьющуюся.
Турн узнал своего друга и приказал слугам удалиться, а внимательно оглядев его при свете факела, заметил, что тот весь в болотной тине, как и его лошадь.
– Что с тобой случилось, Юний Брут? – спросил он удивленно. – Ведь ты отлично знаешь эту местность с детства.
Брут, отвечая, взъерошил свои курчавые волосы и выдернул два-три лепестка из этой спутанной шевелюры, куда постоянно у него набивалась пыль, соломинки, древесная зелень и др. дрянь.
– Знаю я, друг, и великий Рим тоже с детства, – отозвался он с улыбкой чудака, – а теперь хожу в нем, как в потемках среди трясины. Ты понимаешь, конечно, что легко утонуть в болоте, когда над ним господствует Пан, подобный Тарквинию, не играющий на свирели, а способный только нагонять «панический страх»; Пан с такими панисками, как Клуилий и Руф.
– Но почему ты так запоздал в дороге, Юний?
– Я рассчитывал приехать к тебе еще засветло, да буря залепила мне глаза пылью; я сбился с тропинки, стал блуждать; лошадь моя остановилась, точно почуяв волка, и как я ее ни понукал, не пошла дальше; я дернул вожжей, хотел повернуть назад, а у нее вдруг задние ноги провалились. Я уцепился за дерево, стал кричать и вместе тянуть лошадь из трясины, наконец прыгнул от дерева на торчащий из трясины камень.
– Ловко! Ты счастливо отделался! Ты мог упасть мимо камня прямо в топь. Если бы злосчастная судьба не заставила тебя стать Брутом (Тупоумом), тебя прозвали бы Авдакс (смельчак).
– Ну нет, дружище! – возразил чудак с усмешкой. – Я в Авдаксы не пойду! Да и тебе не советую выказывать слишком явно твою отвагу. Ты мне много раз прежде говаривал «терпи и жди!». Теперь я приехал сказать тебе то же самое.
– В каком смысле?
– А в таком, что теперь очень мудрено идти прямою дорогою в Рим. Один неверный шаг – и провалишься.
– Зачем ты приехал, Юний? Неужели только для того, чтобы сетовать со мною в дни моего траура? Или тебя царь прислал с каким-нибудь поручением? О казни моего несчастного зятя узнано? Дошла к вам весть?
– Царь гневен на Тарквиния за это и за многое другое еще… Помнишь, как мы детьми стали раз подражать уличным мальчишкам и ты меня подучил, став к тебе на плечи, яблоки воровать через забор у дедушки Туллия?
– Помню, но к чему ты это теперь приплел в разговор? Милая привычка у тебя, Юний! Никогда ты о деле не скажешь прежде, чем не наговоришь кучи пустяков.
– А помнишь, как я бешеного кота представлял? Дед Туллий разыгрался со мною и Фигулом… я до того увлекся, что в самом деле влепился в него с разбега и расцарапал руки ему?
– Ну!..
– Ну… теперь в деда Туллия морские раки впились и сосут ему руки побольнее моих царапин.
– Как?
– Разве ты не слыхал, что он казнен?
– Туллий-сакердот казнен?! Я слышал, что его отрешили за старостью, это было давно пора сделать.
– Тарквиний к этому отрешению присоединил поругание старика над его изображением – казнь in effigie.
– Это был такой старый гриб, что приходился чуть не дедом самому Сервию, а тебе и твоим ровесникам в родне – просто proavus – предок, прапрадед.
– Некоторым особам мнится, будто после отрешения Туллий увезен не в затвор на покой, а казнен, утоплен.
– Тайно утопить такую особу, как жрец vis sacris faciundi, мудрено!
– Для Тарквиния с Руфом мало мудреного на свете, мой друг! Извратили они и другие, им подобные люди, все законы и уставы в великом Риме! Ты размысли и проследи, с какою постепенностью у нас все переходит одно в другое: в глубокой древности, еще до наших предков, при Ларах, было положено, что сан жреца – должность пожизненная; ни отрешать, ни увольнять нельзя было того, кто обрекался алтарю на всю жизнь до смерти, а когда это оказалось не всегда возможным, придумали убивать жрецов на жертвенниках, когда они по старости или болезненности больше не годились для службы. Нравы смягчились, а закон остался… как тут быть? Люди правдивые, прямые, как ты, Турн, просто отменили бы такой закон, неподходящий людям нашего времени, но изворотливые интриганы, подобные Руфу, каких и прежде было не мало, внушили царю Нуме оставить закон, не ломать прадедовских заветов. Они это сделали, несомненно, для того, чтобы, опираясь на все еще существующий, не уничтоженный закон, когда желают, могли губить своих противников, сами в то же время уклоняясь от подчинения этому закону. Такие люди выдумали фиктивные обряды мнимой смерти…
– Я это все знаю, Юний.
– Стало быть знаешь, что Туллий, считаемый как бы мертвым, должен был лежать в гробу?
– Разумеется… Но я не могу придумать, за что эту старую развалину Тарквиний мог казнить.
– За что… Во-первых, за то, что он был в родстве с Сервием Туллием и пользовался его расположением.
– Да… но… в таком случае, Тарквинию прежде всех следовало бы казнить самого себя; после смерти его брата, он самый близкий и любимый родственник царя.
– И самый лютый его враг-ненавистник.
– Это все знают… Это ни для кого не тайна, кроме самого Сервия, который не хочет слышать никаких разоблачений о его зяте, точно ум его отуманен Атэ, богиней безрассудства. Отрешение Туллия сакердота полная тайна, ты говоришь?
– Именно… Кого я ни спрашивал, никто не мог сказать мне с полной достоверностью про финал этих обрядов. Все видели, что аблекты регента вынули из гроба и бросили в море предмет, увернутый в холст, больше ничего не известно. Был ли это манекен, лежавший в гробу, или напротив, – манекен оставлен, а утоплен старик, – спроси фламина Руфа… Быть может, он это откроет тебе «по дружбе»…
И Брут усмехнулся своим словам.
– Жаль старика, если так случилось! – воскликнул Турн.
– Конечно, жаль… Но есть нечто еще важнее: твой тесть Эмилий Скавр отравлен и все догадались кем: Руф незадолго до этого присылал свою невольницу с пустыми поручениями к Вулкацию.
– Мой тесть отравлен! – вскричал Турн с начинающимся рыданием, – он недавно говорил мне о своем непоколебимом убеждении, что Тарквиний намерен искоренить всех могущественных особ, которых любит царь, чтобы потом покуситься и на жизнь царя.
– Сервий и так скоро умрет; походные неудобства окончательно разбили его старое тело, но Тарквинию этого мало; он опасается, что Сенат изберет в цари не его после Сервия, а другого… Ты знаешь, кого, тебя, потомок Турна, царя рутульского.
– А ты говоришь мне «терпи и жди!» Нет, Брут, время действовать.
– Я говорю лишь в том смысле, чтобы ты поступал осмотрительно. Обстоятельства крайне опасны. Твой тесть еще жив и его, может быть, удастся спасти от подозрительной болезни, которою он захворал; поедем к нему завтра же с зарею в Этрурию.
– К сожалению этого совершенно нельзя; на этих днях в Ариции назначено обычное, ежегодное совещание старейшин области; Тарквиний тоже непременно приедет. Если бы я оставался на войне, я мог бы не участвовать в совете моего родного города, но так как все узнали, что я покинул стан в бессрочный отпуск, то могут счесть, будто я туда внезапно вернулся к царю нарочно чтобы уклониться от участия в рассмотрении наших областных дел, могут подумать, будто справедлива пущенная моими врагами клевета – я изменник; сочувствую восставшим этрускам только по той причине, что среди них был мой зять.
– Но твой тесть умирает, это уважительный предлог отъезда.
– Ты знаешь, Юний, что я люблю Скавра, как родного отца, его гибель будет лютым горем моего сердца, но ведь он еще не умер и ты говоришь, что спасание даже возможно.
– Врачи надеются.
– Я пошлю к нему немедленно жену с детьми.
– Проезд совершенно безопасен; этруски покорились нам.
– Благодарю, мой лучший друг, что приехал лично известить меня о новом бедствии. Еще можно отвратить этот перун Рока.
– Будем надеяться! «Терпеть и ждать» как ты советовал.
– Ты человек незаменимый, Юний! Я провижу в тебе нечто великое. Не только мой тесть, но даже и дядя Тарквиния, Эгерий Коллатин, согласен с нами, что этого царского зятя, во что бы то ни стало надо отстранить от престолонаследия. Такой человек на курульном кресле Ромула будет тираном.
– Тарквиний знает все замыслы нашей партии, Турн. Руф и его друг Клуилий давно все разведали, нашептали регенту в уши ужасных слов целую гору.
– Я решил поднять этот вопрос на совете старейшин в Ариции, решил узнать, на кого там можно рассчитывать и кого остерегаться.
– А по-моему лучше бы тебе не ездить, Турн, на этот совет! Чует мое сердце что-то недоброе. Поедем в Этрурию к царю и твоему тестю. Эмилия с детьми проедет тихо так долго, что старик успеет умереть, не передав тебе свои последние заветы, тогда как мы налегке верхом быстро доскачем.





