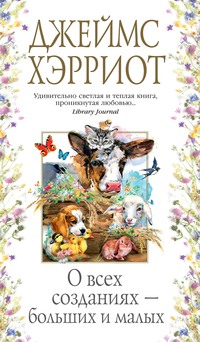Полная версия
О всех созданиях – прекрасных и удивительных
– Хорошо, – сказал я.
– Ладно, – сказал Тристан.
Мой партнер встал из-за стола.
– Ты снова назначил его на прием?
– Да. Конечно, – Тристан достал из кармана сигареты. – На понедельник. Но ведь мистер Муллиген всегда опаздывает, и я предупредил его, что мы осмотрим собаку вечером у него дома.
– Ах, так! – Зигфрид сделал пометку в блокноте и вдруг вскинул голову. – Но ведь вы с Джеймсом в это время должны быть на собрании молодых фермеров?
Тристан сделал глубокую затяжку.
– Совершенно верно. Для практики очень полезно, чтобы мы почаще встречались с молодыми клиентами.
– Прекрасно, – сказал Зигфрид, направляясь к двери. – Я сам осмотрю собаку.
Утром во вторник я все время ждал, что Зигфрид вот-вот упомянет муллигеновского пса, хотя бы в доказательство того, какую пользу приносит полное клиническое обследование. Но этой темы он не коснулся.
Однако волею судеб, когда я шел через рыночную площадь, мне повстречался мистер Муллиген, которого, естественно, сопровождал Кланси.
Я подошел к старику и крикнул ему в ухо:
– Как ваша собака?
Он извлек трубку изо рта и улыбнулся неторопливо и благодушно.
– А хорошо, сэр, очень хорошо. Выворачивает ее помаленьку, но не так, чтобы слишком уж.
– Значит, мистер Фарнон ее подлечил?
– Ага! Дал ей еще белой микстурки. Отличное средство, сэр. Отличное!
– Вот и прекрасно, – сказал я. – И пока обследовал Кланси, он ничего плохого не обнаружил?
Джо пососал трубку.
– Да нет. Уж мистер Фарнон свое дело знает. В жизни не видывал, чтоб человек так живо управлялся.
– Что-что?
– Так ведь он только взглянул – и уже во всем разобрался. Три секунды – и конец делу.
Я был сбит с толку.
– Три секунды?
– Да, – категорично заявил мистер Муллиген. – Ни на секундочку больше.
– Поразительно! И как же это было?
Джо выбил трубку о каблук, не спеша вытащил ножик и принялся отпиливать новую заправку от зловеще черной полосы прессованного табака.
– Так я же вам толкую: мистер Фарнон, он ведь что твоя молния. Вечером забарабанил в дверь и как прыгнет в комнату! (Мне были хорошо известны эти домишки: ни коридорчика, ни даже прихожей – дверь с улицы открывалась прямо в жилую комнату.) Входит, а сам уже градусник вытаскивает. А Кланси, значит, полеживал у огня, ну и вскочил, да и гавкнул маленько.
– Маленько гавкнул, э? – Я прямо-таки увидел, как косматое чудовище взлетает в воздух и лает в лицо Зигфриду – пасть разинута, клыки сверкают.
– Ага! Гавкнул маленько. А мистер Фарнон спрятал градусник в футляр, повернулся и вышел в дверь.
– И ничего не сказал?
– Ни единого словечка. Повернулся, значит, как солдат на параде и марш-марш за дверь. Вот так-то.
Это походило на правду. Решения Зигфрид умел принимать мгновенно. Я протянул было руку, чтобы погладить Кланси, но что-то в его глазах удержало меня от такой фамильярности.
– Ну, я рад, что ему полегчало! – прокричал я.
Старик раскурил трубку с помощью старой латунной зажигалки, выпустил облачко едкого сизого дыма прямо мне в лицо и закрыл чашечку медной крышкой.
– Ага. Мистер Фарнон прислал большую бутылочку белой микстурки, и ему живо полегчало. Да что уж там! – Он улыбнулся благостной улыбкой. – Кланси всегда ж маленько, а выворачивает. Уж он такой.
Более недели пес-великан в Скелдейл-Хаусе не упоминался, но, видимо, профессиональная совесть грызла Зигфрида. Во всяком случае, он как-то днем заглянул в аптеку, где мы с Тристаном занимались делом, ныне отошедшим в область преданий – изготовляли жаропонижающие микстуры, слабительные порошки, пессарии из борной кислоты, – и сказал с величайшей небрежностью:
– Да, кстати! Я послал письмо Джо Муллигену. Все-таки я не вполне убежден, что мы исследовали его собаку в надлежащей мере. Вывора… э… рвота почти наверное объясняется неразборчивым обжорством, но тем не менее я хотел бы удостовериться в этом точно. А потому я попросил его зайти завтра с собакой между двумя и тремя, когда мы все будем здесь.
Радостных воплей не последовало, и он продолжал:
– Пес этот, пожалуй, в какой-то степени нелегкое животное, а потому нам надо все рассчитать заранее. – Он посмотрел на меня. – Джеймс, когда его приведут, вы будете опекать его сзади, хорошо?
– Хорошо, – ответил я без всякого восторга.
Зигфрид впился глазами в брата.
– А тебе, Тристан, поручим голову, договорились?
– Отлично, отлично, – буркнул Тристан, храня непроницаемое выражение, а его брат продолжал:
– Ты покрепче обхвати его обеими руками за шею, а я уже буду готов ввести ему снотворное.
– Прекрасно, прекрасно, – сказал Тристан.
– Ну, вот и чудесно! – Мой партнер потер руки. – Как только я его уколю, остальное будет просто. Я не люблю оставлять что-то невыясненным.
В Дарроуби практика в целом была типично деревенской – лечили мы больше крупных животных, а потому в приемной пациентов обычно бывало немного. Но на следующий день после двух в ней вообще не оказалось никого, и ожидание из-за этого стало почти невыносимым. Мы все трое слонялись из комнаты в комнату, заводили разговоры ни о чем, с подчеркнутым равнодушием поглядывали в окно на улицу, что-то про себя насвистывали. К половине третьего мы окончательно смолкли. Следующие пять минут мы через каждые несколько секунд подносили часы к глазам, и ровно в половине третьего Зигфрид нарушил молчание.
– Черт знает что! Я предупредил Джо, чтобы он пришел до половины третьего, а он даже внимания не обратил. Он вечно опаздывает, и, по-видимому, добиться от него пунктуальности невозможно. И очень хорошо: ждать дольше у нас времени нет. Нам с вами, Джеймс, пора ехать оперировать жеребенка, а за тобой, Тристан, записана корова Уилсона. Ну, в путь!
До той минуты я был убежден, что в дверях застревают только кинокомики, но тут выяснилось, что мы вполне могли бы с ними соперничать: во всяком случае, в коридор мы вывалились все вместе. Несколько секунд спустя мы были уже во дворе, и Тристан, рыча мотором, унесся прочь в синем облаке выхлопных газов. А мы с Зигфридом лишь чуть медленнее умчались в противоположном направлении.
Когда с улицы Тренгейт мы свернули на рыночную площадь, я обвел ее быстрым взглядом, но мистера Муллигена нигде не обнаружил. Увидели мы его на самом выезде из городка. Он только-только вышел из дома и неторопливо брел по тротуару, окутанный сизым дымом, а Кланси, как обычно, трусил чуть позади.
– Вон он! – воскликнул Зигфрид. – Нет, вы поглядите на него! С такими темпами он доберется до приемной не раньше трех. И никого там не найдет. Но он сам виноват. – Тут он оглянулся на огромного курчавого пса, просто излучавшего здоровье и энергию. – Впрочем, мы просто потратили бы время впустую, обследуя эту псину. Ничем он не болен.
Зигфрид немного помолчал, глубоко задумавшись, а потом повернулся ко мне.
– Сущий живчик, ведь верно?
6
– Мастика эта, – сказал мистер Пикерсгилл. – Ну, прямо спасу от нее никакого нет!
Я кивнул, соглашаясь, что упорный мастит у его коров достаточная причина для тревоги, а сам подумал, что другие фермеры обошлись бы местным термином «опухание», но мистер Пикерсгилл остался верен себе и категорически, хотя и не вполне точно, применил научное название.
Обычно он промахивался по цели совсем немножко, и плоды его усилий либо точно воспроизводили оригинал, либо их происхождение прослеживалось без особого труда, но вот откуда взялась «мастика», я постичь не сумел, но знал, что, раз выковав слово, он ему уже не изменит. Мастит был для него «мастика эта» и мастикой останется. И я знал, что он всегда будет упрямо отстаивать свою правоту. А все потому, что мистер Пикерсгилл, по его убеждению, получил научное образование. Ему было лет шестьдесят, а юношей, почти подростком, он прослушал двухнедельный практический курс для фермеров в университете города Лидса. Это мимолетное соприкосновение с академическим миром оставило в его душе неизгладимый след. Он словно ощутил, что за привычными заботами его будней скрыто нечто истинно значительное и важное, и это зажгло в нем огонь, озарявший всю его последующую жизнь.
Ни один облаченный в мантию маститый ученый не вспоминал свои давние года в сени оксфордских шпилей с такой ностальгией, как мистер Пикерсгилл эти две недели в Лидсе, и его разговоры были уснащены упоминаниями о богоподобном профессоре Маллесоне, который, видимо, вел этот курс.
– Просто ума не приложу, что же это такое! – продолжал он. – В мои университетские деньки мне только и твердили, что от мастики вымя все распухает, а молоко идет грязное. Значит, мастика эта какая-то другая. Маленько хлопьев в молоке, да и то, когда они есть, а когда и нет; только я этим сыт по горло, позвольте вам доложить.
Я отпил чай из чашки, которую миссис Пикерсгилл поставила передо мной на кухонном столе.
– Да, мастит затянулся и не тревожиться нельзя. Я убежден, что тут действует какой-то скрытый фактор, и мне не удается его нащупать.
Но я кривил душой, не сомневаясь, что фактор этот я уже обнаружил. Как-то я приехал на ферму под вечер и вошел в маленький коровник, где мистер Пикерсгилл и его дочь Оливия доили свой десяток коров. Я стоял и смотрел, как они доят, скорчившись в три погибели среди ряда серебристых и рыжих спин. И мне сразу бросилось в глаза, что Оливия лишь чуть-чуть перебирает пальцами, даже запястья у нее неподвижны, но ее отец тянет за соски так, словно звонит во все церковные колокола под Новый год.
Это наблюдение вкупе с тем фактом, что хлопья появлялись в молоке только тех коров, которых доил мистер Пикерсгилл, убедило меня в травматическом происхождении их хронического мастита.
Но как сказать ему, что он доит неправильно и единственный выход – выработать более мягкую манеру либо согласиться, чтобы всех коров доила Оливия?
Решиться на это было тем труднее, что мистер Пикерсгилл обладал необыкновенной внушительностью. У него не нашлось бы пенса лишнего, но и здесь, на кухне, в потрепанной фланелевой рубахе без ворота и в подтяжках он выглядел промышленным магнатом. Никто не удивился бы, увидев эту львиную голову, полные щеки, благородный лоб и снисходительные глаза на очередной фотографии в финансовом отделе «Таймc». Надень он котелок и полосатые брюки, его невозможно было бы отличить от председателя правления какого-нибудь крупного банка.
Покуситься на это врожденное достоинство у меня не хватало духа, к тому же мистер Пикерсгилл своих коров холил и лелеял. Десять его коров, как и все животные, принадлежавшие быстро исчезающей породе мелких фермеров, были упитанными и чистыми. Да и как не ухаживать за своей скотиной, если она тебя кормит? Мистер Пикерсгилл вырастил и поставил на ноги всех своих детей на доход от продажи молока, иногда пополнявшийся выручкой за двух-трех свиней и яйца пятидесяти кур, которыми занималась его жена.
Как они сводили концы с концами, сказать не могу. Но сводили и были вполне довольны своим жребием. Все дети, кроме Оливии, обзавелись собственными семьями и жили отдельно, и тем не менее в доме по-прежнему царил дух гармонии. Вот и в эти минуты мистер Пикерсгилл обстоятельно излагал свою точку зрения, а жена, хлопоча на заднем плане, слушала его с тихой гордостью. Оливия тоже была счастлива. Хотя ей было за тридцать пять, стародевичества она не опасалась, ибо за ней пятнадцать лет с самыми серьезными намерениями ухаживал Чарли Хадсон из рыбной лавки в Дарроуби. Пусть влюбленность Чарли и не отличалась чрезмерной бурностью, легкомысленным мотыльком его назвать было никак нельзя, и никто не сомневался, что не пройдет и десяти лет, как он объяснится.
Мистер Пикерсгилл предложил мне еще одну масляную лепешку, а когда я, поблагодарив, отказался, он несколько раз кашлянул, словно подыскивая слова.
– Мистер Хэрриот, – начал он наконец, – у меня нет привычки учить людей их делу, да только все ваши медикаменты мы перепробовали, и мастику эту они ни в какую не берут. А я, когда учился у профессора Маллесона, позаписал всякие отличные рецепты, так вот и хотел бы испытать вот этот. Изволите взглянуть?
Он засунул руку в задний карман брюк и извлек пожелтевший листок, почти протершийся на сгибах.
– Мазь для вымени. Может, если растереть им мошны хорошенько, все и пройдет?
Я прочел рецепт, написанный четким старомодным почерком. Камфора, эвкалиптовое масло, окись цинка – длинный список таких знакомых названий! Они вызвали у меня невольную нежность, но она умерялась все укрепляющимся разочарованием. Я уже было открыл рот, собираясь сказать, что, по-моему, никакие втирания ни малейшей пользы не принесут, но тут фермер громко охнул.
Он слишком напрягся, засовывая руку в задний карман, и застарелый радикулит тут же дал о себе знать. Старик выпрямился в струнку, морщась от боли.
– В спину вступило, доложу я вам! Прострел чертов, и доктор с ним ничего поделать не может. Пилюль наглотался – прямо гремушку из меня делай, а толку чуть.
Блестящими умственными способностями я не отличаюсь, но порой меня осеняет.
– Мистер Пикерсгилл! – произнес я с глубокой серьезностью. – Сколько я вас знаю, вы страдаете радикулитом, и сейчас мне пришла в голову одна мысль. Мне кажется, я знаю, как вы могли бы от него избавиться.
Глаза фермера широко открылись, и в них засветилась детская доверчивость, без малейшего намека на иронию. Как и следовало ожидать. Раз люди больше полагаются на слова живодера или торговца костной мукой, а не на советы ветеринара, когда болеют их животные, вполне естественно, что они предпочтут рекомендации ветеринара, а не врача, когда речь идет об их собственных болезнях.
– Вы знаете, как меня излечить? – спросил он слабым голосом.
– По-моему, да. И никакого лечения не потребуется. Просто перестаньте доить!
– Доить перестать? Да какого дьявола?..
– Именно, именно! Вспомните: вы же каждое утро и каждый вечер сидите, согнувшись на низкой табуреточке. Человек вы высокий, и совсем подбородком в колени утыкаетесь, чтобы до вымени дотянуться. Конечно же, вам это вредно!
Мистер Пикерсгилл уставился перед собой, словно ему предстало дивное видение.
– Вы, правда, думаете…
– Безусловно. Во всяком случае, проверьте. А доить пока может Оливия. Она ведь всегда говорит, что отлично справится одна.
– Конечно, папа! – вмешалась Оливия. – Доить я люблю, ты же знаешь, а тебе пора и отдохнуть. Ты ведь с самых детских лет доил.
– Черт, молодой человек, а ведь вы, пожалуй, в точку попали, доложу я вам. И пробовать не стану. С этой минуты и кончу, мое решение принято. – Мистер Пикерсгилл откинул великолепную голову, обвел кухню властным взглядом и хлопнул кулаком по столу, словно только что подписал документы о слиянии двух нефтяных компаний.
Я встал.
– Отлично, отлично. Рецепт я захвачу с собой и составлю мазь. Вечером она будет готова, и, на вашем месте, я бы начал лечение без проволочек.
В следующий раз я увидел мистера Пикерсгилла примерно через месяц. Он величественно катил на велосипеде через рыночную площадь, но заметил меня и спешился.
– А, мистер Хэрриот! – сказал он, слегка отдуваясь. – Рад, что мы встретились. Я все собирался заехать к вам и сказать, что хлопьев в молоке больше нет. Как начали мы втирать мазь, так они и пошли на убыль, а потом и вовсе пропали.
– Прекрасно! А ваш радикулит?
– Вот уж тут вы маху не дали, молодой человек, доложу я вам, что спасибо, то спасибо! С того дня я ни разу не доил, так спина даже поднывать перестала. – Он ласково улыбнулся мне. – Для нее-то вы мне дельный совет дали, но чтоб вылечить мастику эту, пришлось-таки нам к старому профессору Маллесону вернуться, а?
Следующая моя беседа с мистером Пикерсгиллом произошла по телефону.
– Я по автоклаву говорю, – сообщил он придушенно.
– По авто…
– Ну, да. В деревне из будки. По телефону-автоклаву.
– А, да-да, сказал я. – Так чем могу быть полезен?
– Вы бы сейчас не приехали? А то тут у одного моего теленка сальный нос объявился.
– Простите?
– Сальный нос. У теленка.
– Сальный нос?
– Во-во! Тут давеча утром по радио как раз про него толковали.
– А-а! Да-да, понимаю. (Я тоже успел послушать эту часть передачи для фермеров – лекцию о сальмонеллезе у телят.) Но почему вы полагаете, что у него именно эта болезнь?
– Так прямо же, как объясняли: у него кровь идет из андуса.
– Из… А, да-да, конечно. Поглядеть его следует. Я скоро буду.
Теленку бесспорно было очень плохо, и кровь из заднего прохода у него действительно шла. Но не как при сальмонеллезе.
– Поноса у него нет, мистер Пикерсгилл, вы сами видите. Наоборот, впечатление такое, что у него трудно с проходимостью. Кровь же почти чистая. И температура не очень высокая.
В голосе фермера прозвучало явное разочарование:
– Черт, а я-то думал, что у него все точь-в-точь, как объясняли. Сказали еще, что следует пробы посылать в лабрадор.
– А…э?
– В следовательский лабрадор. Да вы же знаете!
– Да-да, совершенно верно. Но, думаю, анализы тут ничего не дадут.
– Ну, а что же у него тогда? С андусом непорядок?
– Нет, нет, – ответил я. – Но где-то кишечник у него закупорился, и это вызывает кровотечение. – Я поглядел на понурого, горбящего спину теленка. Он весь был сосредоточен на неприятных внутренних ощущениях и время от времени напрягался и слегка кряхтел.
Конечно, конечно, мне следовало бы сразу понять в чем дело, ведь картина была на редкость четкой. Но, вероятно, у каждого из нас есть свои слепые пятна, не дающие различить то, что прямо в глаза бросается, и несколько дней я, как в тумане, пичкал бедняжку то тем, то этим – даже вспоминать не хочется.
Но мне повезло. Он выздоровел вопреки моему лечению. И только когда мистер Пикерсгилл показал мне комочек некротизированной ткани, вышедшей с экскрементами, я, наконец, понял.
И пристыженно повернулся к фермеру.
– Это обрывок омертвевшей кишки, которая сама в себя втянулась. Инвагинация. Обычно она приводит к гибели животного, но, к счастью, ваш теленок избавился от препятствия естественным путем и теперь должен совсем поправиться.
– Но как вы сказали? Что у него было-то?
– Инвагинация.
Губы мистера Пикерсгилла зашевелились, и я ожидал, что он вот-вот повторит новое словечко. Но попытка, по-видимому, не удалась.
– А! – сказал он только. – Вот, значит, что у него было!
– Да, но в чем заключалась причина, определить трудно.
Фермер презрительно фыркнул.
– Хотите об заклад побиться, я вам скажу! Я с самого начала, доложу вам, говорил, что расти он будет слабеньким. У него из пупка кровь шла, потому что родился-то он в проценте!
Но мистер Пикерсгилл со мной еще не кончил. Не прошло и недели, как я вновь услышал в трубке его голос:
– Поскорее приезжайте! У меня тут свинья безик устроила.
– Безик? – Я даже замигал, отгоняя от себя видение двух хрюшек, затеявших перекинуться в картишки. – Боюсь, я не совсем…
– Я ей микстуру от глистов дал, а она запрыгала и ну на спине валяться. Говорю же вам, самый настоящий безик.
– А… да-да, я… да-да. Сейчас приеду.
Когда я приехал, свинья немного угомонилась, но все еще страдала от боли: ложилась, вскакивала, кружила по закутку. Я ввел ей гран гидрохлорида морфия и через несколько минут движения ее замедлились, а затем она улеглась на солому и уснула.
– По-видимому, все обойдется, – сказал я. – Но какую микстуру вы ей дали?
Мистер Пикерсгилл неохотно протянул мне бутылку.
– Тут один заезжал – продавал их. Сказал, что любых глистов изничтожит, какие только есть.
– Вот и вашу свинью тоже чуть не изничтожило, верно? – заметил я, нюхая жидкость. – И неудивительно. Судя по запаху, это же почти чистый скипидар.
– Скипидар? Ох, черт, только-то? А он-то божился, что средство самое новейшее. И деньги с меня содрал кардинальные.
Я вернул ему бутылку.
– Ну, ничего. Дурных последствий, мне кажется, не будет, но место этой бутылке в мусорном ведре, поверьте.
Садясь в машину, я поглядел на мистера Пикерсгилла.
– Я вам, наверное, порядком надоел. Сначала мастит, потом теленок и вот теперь свинья. Целая полоса незадач.
Мистер Пикерсгилл расправил плечи и поглядел на меня с монументальным спокойствием.
– Молодой человек, – сказал он, – я на это просто смотрю. Со скотиной без беды не обойтись. А я, позвольте вам доложить, по опыту знаю, что беда – она всегда ходит циклонами.
7
– Послушай, Джим, – сказала Хелен, – нам никак нельзя опаздывать. Миссис Ходжсон удивительно милая старушка, она ужасно огорчится, если мы задержимся и ее ужин перестоит.
Я кивнул.
– Ты абсолютно права, этого допустить нельзя. Но у меня после обеда только три вызова, а вечер взял на себя Тристан. Так что я не задержусь.
Подобные тревоги из-за простого приглашения на ужин могут кому-нибудь показаться преувеличенными, но для ветеринаров и их жен, особенно в те времена, когда человек работал один или с единственным помощником, опасность оказаться грубо невежливым была вполне реальной. Мысль, что кто-то приготовит для меня угощение, а потом будет сидеть в напрасном ожидании, необыкновенно меня пугала, но такое случалось со всеми нами. Этот страх воскресал во мне всякий раз, когда нас с Хелен куда-нибудь приглашали, – тем более если приглашали люди вроде Ходжсонов. Мистер Ходжсон, на редкость симпатичный старый фермер, был очень близорук, но глаза его за толстыми стеклами очков смотрели на мир безмятежно и ласково. Его жена, такая же добрая душа, как он сам, лукаво покосилась на меня, когда я за два дня до этого заехал к ним.
– Под ложечкой у вас не сосет, мистер Хэрриот?
– Еще как, миссис Ходжсон! Ничего аппетитнее я не видывал!
Я мыл руки на кухне и невольно поглядывал на стол, где во всем великолепии красовались доказательства того, что свинью для собственного употребления здесь откормили на славу: отбивные на ребрышках, золотистые ряды пирогов, пирамида только что набитых колбас, банки с рублеными ножками и головой. В духовке еще вытапливалось сало, заливавшееся затем в большие горшки.
Старушка внимательно на меня посмотрела.
– А почему бы вам на днях не привезти сюда вечерком миссис Хэрриот и не помочь нам со всем этим управиться?
– Вы очень любезны и я бы с огромным удовольствием, но…
– Нет-нет! И слышать ничего не хочу! – Она засмеялась. – Да и правда, слишком тут всего много, как ни раздаривай!
Она не преувеличивала. В те дни каждый фермер и многие жители Дарроуби откармливали свиней для собственного стола, и время, когда такую свинью кололи, оборачивалось всеобщим пиршеством. Окорока и бока коптились впрок, но все остальное надо было съесть, и поскорее. Для многосемейных фермеров это особых трудностей не составляло, но все прочие щедро оделяли друзей и знакомых восхитительными сверточками, не сомневаясь, что в свой час их отдарят тем же.
И вот я беззаботно отправился во вторник в послеобеденный объезд, а передо мной в соблазнительнейших видениях витал ужин, который миссис Ходжсон уже, наверное, готовит. Я знал, что нас ожидает: отбивные, зажаренные с луком, печенью и ветчиной, окруженные гирляндой домашних сосисок, каких уж теперь не попробуешь! Да, было о чем помечтать!
Собственно говоря, это видение продолжало манить меня, и когда я въехал во двор Эдварда Уиггина. Подойдя к большому сараю, я оглядел моих пациентов – десяток молодых бычков, отдыхающих на толстой соломенной подстилке. Мне предстояло вакцинировать их от эмфизематозного карбункула[2]. Без этого почти наверное кое-кто из них сдох бы, так как луга вокруг были заражены спорами смертоносной бациллы Clostridium chauvoei.
Болезнь достаточно распространенная, и скотоводы еще в старину выискивали способы борьбы с «черноногостью» – например продергивали бечевку сквозь складку кожи под челюстью. Но мы, к счастью, уже располагали надежной вакциной.
Я полагал, что разделаюсь за несколько минут – Уилф, работник мистера Уиггина, удивительно ловко умел ловить животных. Но тут я увидел, что через двор ко мне идет сам фермер, и сердце у меня упало: в руке он нес свое лассо. Шагавший рядом с ним Уилф посмотрел на меня и страдальчески возвел глаза к небу. Он тоже явно опасался худшего.
Мы вошли в сарай, и мистер Уиггин принялся тщательно сматывать свою длинную белую веревку, а мы с Уилфом тоскливо наблюдали за ним. Этот щуплый старичок в молодости несколько лет прожил в Америке. Рассказывал он об этих годах весьма скупо, но мало-помалу у всех сложилось впечатление, что был он там ковбоем – во всяком случае, говорил он с мягкой техасской оттяжкой и прямо источал суровую романтику ранчо и бескрайних прерий. Все, хоть как-то связанное с Диким Западом, он обожал – и в первую очередь – свое лассо.
Задеть мистера Уиггина было не так-то легко, обидные намеки он просто пропускал мимо ушей, но стоило усомниться в его способности одним движением руки заарканить самого дикого из быков, как тихонький старичок впадал в ярость. Беда была лишь в том, что сноровка эта существовала только в его воображении.