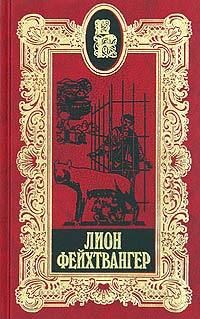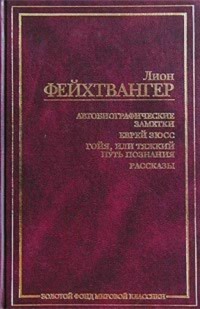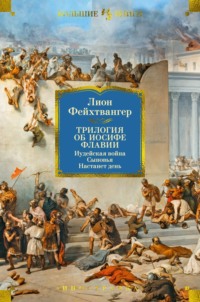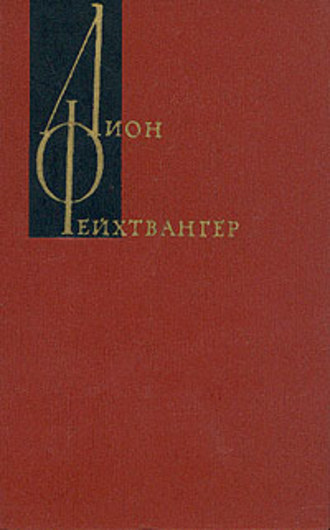 полная версия
полная версияСтатьи
В Мюнхене пьесу ставил Альберт Штейнрюк[67]. Он смог использовать то, что пять лет назад было показано Рейнхардтом. Но если мюнхенская постановка кажется более ясной, светлой и убедительной, чем казалась в свое время постановка Рейнхардта, если она явилась настоящим триумфом, в то время как берлинское представление было в лучшем случае пирровой победой, то дело не только в том, что сегодня нам ближе и понятнее стал автор пьесы: нет, этой выигранной битвой, которая на многие годы обеспечила проблематичной пьесе Шоу место в наших репертуарных планах, автор обязан прежде всего великолепному и умному искусству Штейнрюка.
Штейнрюк с величайшим тактом и с учетом всех исполнительских возможностей нашего Придворного театра ограничился тем, что купировал первую сцену третьего и первую сцену четвертого действия. Удачным оказалось и то, что была сохранена вторая половина третьего действия (сцена у маяка, когда Цезарь прыгает в море), и то, что отпало начало длинной и запутанной интриги Потина, ставившей под угрозу весь четвертый акт. К тому же все декорации и костюмы изумительно передавали суть произведения, – и залитый голубым лунным светом древний сфинкс, фантастически и неподвижно покоящийся среди загадочной и роскошной ночи в пустыне; и ночная колоннада во дворце фараонов, поражающая пышностью и вычурным великолепием своеобразной архитектуры; и чистый, светлый, веселый зал советников царской сокровищницы – с видом на залитое утренним солнцем море; и, наконец, сверкающая полуденная эспланада александрийской гавани с разукрашенной пестрыми вымпелами галерой Цезаря. Ничего удивительного, если эти светлые краски так ослепили и рассердили иных критиканствующих кротов, не способных переносить чистый воздух, что за декорациями и костюмами они не увидели ни автора, ни режиссера.
А между тем режиссура спектакля заслуживает всяческой благодарности и похвалы, для которой можно было бы не скупиться на пышные эпитеты, если бы речь не шла о совершенно непатетическом Шоу. Конечно, Луцию Септимию и Потину несколько недостает характерности, Фтататите следовало бы быть менее гротескной и более жуткой. Но какое это имеет значение по сравнению с умным и одухотворенным распределением актеров, с тщательной и тонкой отделкой многочисленных мелких ролей; по сравнению с глупой красотой Ахилла, простодушной грубостью Руфия, бессильной и робкой дерзостью Птолемея; по сравнению с засушенным и погруженным в свою филологическую ученость язвительным Теодотом – Шваннеке; по сравнению с великолепно трезвым и по-британски уморительно добропорядочным Британом – Грауманном; по сравнению с элегантным, гибким и обворожительным Аполлодором, которого играет Бернгард фон Якоби, – и прежде всего с Тервин в роли Клеопатры и Штейнрюком в роли Цезаря.
По-видимому, не имеет никакого смысла проводить параллель между Клеопатрой – Эйзольдт и Клеопатрой – Тервин. Образ, созданный Эйзольдт, остался у меня в памяти как нечто непререкаемо совершенное; поэтому не так мало значит, – вернее, значит много – то, что роль Клеопатры, совершенно иначе истолкованная Тервин, ни разу не вызывала у меня желания, чтобы хоть что-то в ней было изменено. Эта египтянка поистине является самым живым символом своей глубоко противоречивой страны, при первом же своем появлении она волнует кровь не только Аполлодору, но и Цезарю, как Елена – троянским старцам. Однако истинным центром комедии стал все-таки Штейнрюк, что доказывает, как бесконечно он вырос за последние пять лет. Ибо еще пятилетие тому назад автор этой статьи вынужден был констатировать: «В Германии есть всего три актера, способных воплотить этот образ и спасти комедию для сцены», и Штейнрюку он отказывал в необходимой силе и грации. А теперь этот актер создал такое великолепное смешение Цицерона и Плутарха, милой дядюшкиной плутоватости и великой всеобъемлющей человечности, что благодаря этому осветилась вся комедия с ее глубочайшим двойным смыслом, и, по-видимому, сценичность ее доказана теперь раз и навсегда. После многих жалких попыток это представление наконец на деле показало, что театр в Мюнхене уже нельзя назвать провинциальным театром.
Родоначальница современного фельетона
Когда на премьере драмы Виктора Гюго «Эрнани» Дельфина Гэ вошла в свою ложу и перегнулась через перила, чтобы рассмотреть публику, стоявший в зале шум мгновенно стих и зрители вознаградили ослепительную красоту совсем еще юной дамы троекратными аплодисментами. «Это бурное выражение чувств, – замечает Теофиль Готье, – возможно, и не свидетельствовало о такте публики, но не забывайте, что в партере сидели поэты, скульпторы, художники, захваченные ее красотой и захмелевшие от восторга, и им не было никакого дела до правил хорошего тона».
С этого момента Дельфина Гэ, или, как ее звали после замужества, мадам Эмиль де Жирарден[68], стала музой Парижа.
Уже в 1822 году восемнадцатилетняя девушка удостоилась академической премии, а в 1827-м, двадцати трех лет, она была увенчана лаврами на римском Капитолии. Ее салон был самым блестящим в Париже, ее фельетоны – последним и решающим словом обо всех событиях общественной и художественной жизни Франции: Ламартин, Виктор Гюго, Бальзак, Готье и Мюссе превозносили в прозе и стихах эту прекрасную, гордую, царственную женщину.
Но уже в сорок четыре года мадам де Жирарден добровольно отказалась от своего могущества, недовольная французской политикой. Умная женщина, она скоро поняла, что ее стихи умрут вместе с ней, но была уверена, что написанные ею фельетоны переживут ее. Через тринадцать лет после смерти Дельфины Жирарден был переиздан сборник ее фельетонов с превосходным предисловием Теофиля Готье. А теперь, спустя шестьдесят лет после ее смерти, парижское издательство «Пейо и компания» выпустило общедоступное, несколько сокращенное издание ее «Парижских писем», дав им название «Виконт де Лонэ». Под этим псевдонимом выступала с фельетонами мадам де Жирарден. Книга прекрасно оформлена, в ней много изящных виньеток работы Вилли Хеера; к сожалению, предисловие Роже-Корна довольно поверхностное, а подбор фельетонов не самый удачный и, откровенно говоря, подходит больше для дам и светских людей, чем для литераторов и исследователей. Все же мне кажется, что для всех интересующихся литературой, и особенно для немецкого литературоведения, важно, что сборник «Виконт де Лонэ», который нелегко было раздобыть в издании Готье, теперь снова появился в массовой продаже.
Мадам де Жирарден родилась в 1804 году в Аахене в семье генерального откупщика Гэ, и ее над гробницей Карла Великого окрестили Дельфиной – по имени героини романа мадам де Сталь. Ее бабушкой была Франческа Перетти, а матерью – Мария-Франсуаза Нишо де ла Валетт; обе эти женщины отличались умом и красотой. Под началом своей матери юная Дельфина, вращавшаяся в высшем обществе и воспитанная в честолюбивых литературных помыслах, блистательно вступила в салоны столицы. Ее красота была бесподобной и столь покоряющей, что даже в легкомысленном обществе эпохи Реставрации не нашлось никого, кто отваживался бы подтрунивать над ее ликующими стихами о «счастье быть прекрасной». Она получила безукоризненное воспитание, ее манеры и туалеты задавали тон, она славилась своим умением вести беседу. Она была увенчана лаврами не только на Капитолии и в Академии: весь Париж, Париж романтиков, поклонялся ей.
Внешне ее биография не представляет большого интереса. Она рано начала писать, в двадцать три года совершила «обязательное» путешествие в Италию, в двадцать семь лет вышла замуж за довольно ординарного господина, Эмиля де Жирардена. Она писала стихи, поэмы, романы, драмы, но прежде всего, под прозрачным псевдонимом Виконт де Лонэ, – парижские письма для основанной ее мужем газеты «Ла Пресс». Несмотря на то что она была окружена поклонниками, нам ничего не известно о какой-либо ее любовной интриге. Впрочем, у нее не было для этого времени: ей приходилось представительствовать и писать. В 1848 году она добровольно оставила журналистскую деятельность, с тем большей страстностью отдавшись сочинению романов и драм. В 1855 году, полная планов и замыслов, она скончалась в возрасте пятидесяти одного года. Похоронена она на кладбище Монмартр.
Мадам де Жирарден – наиболее совершенный тип утонченной дамы первой половины девятнадцатого столетия. Даже ее завистники называли ее «femme comme il faut». Теофилю Готье не хватает восторженных эпитетов, чтобы описать изящество ее особняка, ее умение одеваться с тончайшим вкусом. Несмотря на ее триумфы и на воспитание, главной целью которого было умение блеснуть, ничто безвкусное не прельщало ее; ум и вкус уберегали ее от того, чтобы разыгрывать из себя богиню, и от того, чтобы казаться смешной. Тип femme litteraire внушал ей отвращение, в ней не было ничего от «синего чулка», и насколько она уважала мадам де Сталь, настолько избегала подражать ее бесцеремонным манерам. При этом она была добродушна и честна, «подобно ангелу, чужда всякой низости» (Готье); а для своих друзей оставалась верным товарищем, «добрым малым» (Ламартин). Она, как никто другой, умела вести беседу, и ее мудрая сердечность прогоняла с чела друзей тень озабоченности, и они снова воодушевлялись и обретали веру в себя. Но больше всего восхищали всех вокруг ее врожденный такт и по-детски бесхитростный юмор, который часто так живописно контрастировал с ее величавой, поистине античной красотой. Она была женщиной до мозга костей, зеркалом всего мирского; для общества того времени она была тем же, чем спустя поколение пытался стать для своей эпохи Оскар Уайльд.
Ранние поэтические опыты мадам де Жирарден – элегии, новеллы в стихах и другие произведения, стоят где-то на полпути между классицизмом и романтизмом. Ее изящные стихи написаны уверенной рукой, порой в них чувствуется робкое дерзание. Ее «Последний день Помпеи» небезынтересен хотя бы потому, что написан раньше романа Бульвер-Литтена[69]. Наиболее значителен среди всех этих в целом довольно неоригинальных поэтических произведений роман в стихах «Наполина», порой напоминающий Байрона; в начале романа Дельфина де Жирарден рисует свой автопортрет. Я постарался как можно более точно перевести отрывок, написанный александрийским стихом!
Мы были с ней дружны; меня пленяла в нейНасмешливость ума и острота речей;В ней гордость нежная с лукавством уживалась,Внимала мудрость ей и глупость восхищалась.К любым сердцам она особый знала путь,Любую суетность умно могла кольнуть.По-детски весела, всегда к добру готова,В страданиях кротка, а в гневе так сурова,Надменна, но умна, талантлива, смелаИ женщина во всем – такой она была.Из семи сочиненных ею драм ценность имеют лишь «Школа журналистов», которую так хвалил Бальзак и которую запретила цензура, и «Юдифь», небезынтересная для истории немецкой литературы. Эта драма увидела свет примерно в то же время, что и одноименная драма Геббеля, где-то между 1838 и 1843 годами (к сожалению, я не могу привести точную дату), и была поставлена в Комеди Франсез с Рашелью в заглавной роли. Готье так отзывается о пьесе: «Кроме своих прозрачных стихов, трагедия поражает оригинальностью замысла. Дельфина де Жирарден выделяет в библейской героине мотив неосознанной любви к ассирийскому полководцу, убить которого ей выпало на долю». Мы находим здесь, таким образом, ту же основную идею, благодаря которой «Юдифь» Геббеля приобрела столь выдающееся значение. Дело исследователей Геббеля – установить, послужило ли произведение мадам де Жирарден непосредственным источником для пьесы Геббеля. Или же наоборот.
В 1844 году мадам де Жирарден писала: «Мы с грустью открываем обидную истину, что из всех произведений, которые мы с таким усердием и надеждой писали, лишь одно имеет шанс пережить нас: как раз то, на которое мы возлагали меньше всего надежд». Ее острый, критический ум не ошибся: единственное из ее произведений, и по сей день вызывающее интерес, – это фельетоны, те самые парижские письма, которые под названием «Виконт де Лонэ» недавно вышли третьим изданием.
Впервые «Парижские письма» печатались в «Ла Пресс» между 1836 и 1848 годами, снискав огромное число поклонников и многих подражателей. В них Дельфина де Жирарден писала обо всем, что волновало Париж в те годы: о политике и о театре, о светских новостях и о модах, о достоинствах премьер-министра и о последних приобретениях зоологического сада, о социальном вопросе и о самоновейшей манере завязывать галстук. «Парижские письма», – говорится в предисловии Готье, – воссоздают историю Парижа с 1836 по 1848 год в той мере, в какой она обычно ускользает от историков. Историки запечатлевают битвы, победы и поражения, властителей, партии и режимы; но они не занимаются изображением нравов и обычаев, незначительных мимолетностей, частой смены настроений в ту или иную эпоху. «Парижские письма» стремятся передать как раз эти оттенки картины».
И они передают эти оттенки. Я снова предоставляю слово Готье: «Сколько женственности в этой тонкой наблюдательности, сколько в ней совершенно мужского здравого смысла! Как много восхитительных страниц, которые навсегда останутся в числе лучших образцов прозы, как много подробностей, на первый взгляд легкомысленных и тем не менее почти исторических! Что за неисчерпаемая сокровищница для романистов будущего, которые захотят изобразить эту эпоху!
В «Парижских письмах» поистине во всей цельности и достоверности предстает эта эпоха, неделя за неделей, с ее нравами, модами, пустяками, с ее причудами, неповторимыми оборотами речи, сумасбродством, праздниками, балами, интимными вечерами, со всеми сплетнями и пересудами!»
Но что навсегда завоевало мадам де Жирарден место в истории литературы, так это стиль, или, если хотите, отсутствие стиля в ее «Парижских письмах». Они – образец style parle, элегантной и небрежной салонной беседы, образец стиля современного фельетона, создательницей которого следовало бы считать мадам де Жирарден.
Она не пишет, а ведет беседу. О самых серьезных вещах и о пустяках она умеет рассказывать в непринужденном тоне, что позволяет ей легко делать самые резкие переходы. Часто она остроумна, нередко рискованно остроумничает. Она охотно болтает с читателем в весьма легкомысленном тоне о самых серьезных вещах и столь же охотно рассуждает с абсолютной серьезностью о сущих пустяках. Она почти никогда не высказывает прямо своих чувств, однако нередко впадает в чувствительность; но охотнее всего она прибегает к иронии и парадоксам. Часто она бывает утомительно болтлива, затем вновь удивительно лаконична. Она, очевидно, рассматривает все на свете с одной-единственной точки зрения: можно ли об этом интересно поболтать. Самое жаркое для нее – ничто, главное для нее – приправа.
Как видите, это стиль современного фельетона. Сама манера непринужденно болтать, манера то смотреть на важные события словно бы из укромного уголка, то, начав с полнейшей безделицы, неожиданно открыть перед читателем перспективу глубоких обобщений, манера перемежать разговор о важных событиях салонными сплетнями, сочетать социальные, философские и эстетические течения эпохи и самые нелепые сумасбродства моды в единой хронике, которая подчас бывает поразительно глубока, подчас возмутительно поверхностна, но неизменно интересна, – эта манера письма создана мадам де Жирарден. В Германии тех лет можно назвать лишь одного человека, в известной мере заслуживающего сравнения с автором «Парижских писем». Это Рахель Левин[70]. Но Рахели и в голову не приходило записать и издать книгой все то, о чем она вела беседы. Итак, нам остается лишь констатировать, что мадам де Жирарден была первой писательницей, которая писала фельетоны в современном смысле этого слова; она является родоначальницей современного фельетона.
Ее влияние на современную ей литературу было исключительно велико, и весьма сложно определить, сколь далеко оно распространяется. Не счесть ее учеников и подражателей: имя им – легион. Но прежде всего интересно проследить, какое влияние она оказала на Генриха Гейне. Очень много говорилось о сильном и разностороннем воздействии на Гейне Рахели. О влиянии мадам де Жирарден, насколько мне известно, никто еще не писал. И все же воздействие Жирарден на Гейне во столько же раз сильнее воздействия Рахели, во сколько влияние на него Парижа было сильнее влияния Берлина. Парижские письма Гейне и письма мадам де Жирарден свидетельствуют о постоянном взаимовлиянии, которое иногда доходит до прямых заимствований.
Во всяком случае, историк литературы сделает в «Виконте де Лонэ» удивительные открытия, а непосвященный читатель также найдет, что книга интересна, на какой бы странице он ее ни открыл.
«Персы» Эсхила
У истоков европейской драматической литературы стоит исполинская, неповторимая, как египетские пирамиды, драма Эсхила, единственная дошедшая до нас историческая драма древних: «Персы». Влияние, которое эта драма оказала и, вероятно, будет оказывать и впредь на наши представления о характере и истории древних греков, безмерно. Мы привыкли рассматривать персидские войны[71] как одну из важнейших вех в истории человечества, как чудесную победу ничтожного меньшинства над огромной, жестокой ордой варваров. Можно, однако, предположить, что в действительности эти войны отнюдь не были столь важным событием в персидской истории и что карательная экспедиция против Афин, хотя бы отчасти, но достигла своей цели; ибо в конечном счете Афины были разрушены, а значительная часть греческого войска – уничтожена. Так или иначе, но совершенно очевидно, что, даже если эта экспедиция и не удалась, мощь персидской державы не была подорвана.
Сверхчеловеческое и героическое в битвах греков чаще всего кажется литературным вымыслом. Мы видим эти битвы так, как наши потомки, вероятно, увидят нашу войну две тысячи лет спустя, при условии, конечно, что уцелеет лишь патриотическая поэзия французов и сообщения «Тан». Правда, с той лишь разницей, что «Персы» Эсхила и заимствовавшие у них свой колорит рассказы Геродота написаны несравненно более убедительно и сильно, чем это доступно кому-либо из наших современников.
«Поэзия греков, – говорит Фридрих Шлегель, – настолько недосягаемо возвышается над всем, что написано после них, насколько она совершенна сама по себе. Она объективно прекрасна; ее красота – это красота цветка или какого-либо другого живого существа, которое, развиваясь согласно внутренним законам, не может не стать безупречным. Но пробудившееся в человеке сознание стало препятствовать органическому порыву его роста. Современной поэзии, которая руководствуется разумом, не хватает законченности, единства, столь естественного для органической жизни; склонный к анализу разум беспрестанно расчленяет все то, что стремится быть цельным».
Если Шлегель прав, тогда становится ясно, почему нашей патриотической драматургии никак не удается добиться того, что у Эсхила получалось так естественно, словно само собой. Ведь наш патриотизм абстрактен; по крайней мере, постольку, поскольку он может найти литературное выражение. Ненавидим ли мы остров Уайт? Или Британский музей? Бернарда Шоу? Господина Смита или господина Джонсона? Нет, мы ненавидим Англию.[72] Как понятие, как государство. Но может ли подобного рода ненависть порождать в литературе что-либо иное, кроме фраз, может ли ненависть к вполне постижимому умом, но неосязаемому понятию, рождать истинную поэзию?
Характерно, что именно в «Персах», самом могучем патриотическом произведении всех времен, слово «персия» вообще не встречается. Эсхил говорит о персидской земле, о персидских воинах, женщинах, войске, богах, о персидском языке и персидских обычаях; но он не говорит о Персии. Его патриотизм отнюдь не понятийный, он наивный, предметный. Слово «отечество», которое древнегреческие ораторы и историки столь охотно пускали в ход, также встречается в «Персах» всего один-единственный раз. Патриотизм Эсхила, как бы ни был он полнозвучен, – не риторический, а творческий, образный. И как удивительно осязаемы его боги, его религия, которую он решительно возвращает в область реального, едва она пытается воспарить в заоблачные выси, так и его патриотизм, пронизанный религиозным чувством, есть не плод философствующего ума, а плод живых чувств. Отсюда его сдержанная, суровая сила, его творческая мощь, его убеждающая нас убежденность.
«Персы» в смысле технического мастерства довольно несовершенны, и само произведение не вполне соответствует строгим и прекрасным канонам греческой трагедии. Пьеса еще не совсем перешла из эпико-лирической стихии в драматическую. «Персов» справедливо сравнивали с теми архаическими статуями, у которых ноги сомкнуты, а руки прижаты к туловищу. Да и вообще пьеса на редкость бесхитростна. Многие ужасающие события того времени, которые поэт и сами зрители в полной мере испытали на себе, он опускает или трактует их так, как это больше подходит для его пьесы. Эсхил сам принимал участие в битве при Марафоне, он пожелал, чтобы лишь об этом было сказано в его эпитафии, где ни словом не упомянуто о его победах в состязаниях трагических поэтов.[73] И все же Эсхил изображает дело так, будто Дарий[74] никогда не предпринимал неудачного похода против Эллады. Дарий построил мост через Боспор Фракийский и лично командовал войском во время злосчастного похода против скифов: поэт делает вид, будто этих важнейших событий вообще не было. Царица Атосса, по свидетельству греков, была опасной интриганкой, нечто вроде античной императрицы Евгении, непосредственной зачинщицей войн с Элладой: Эсхил же превращает ее в почтенную, чуть ли не божественную женщину; ибо лишь в такой трактовке она подходит для его замысла. Он вообще полон беспечной искренней наивности. Его персы непрерывно сами себя называют варварами, что, правда, по-гречески звучит мягче, а свой язык – неблагозвучным.
Замечательной противоположностью этой, в сущности, простодушной субъективности служит его объективность в восприятии крупных событий. Тут повсюду соблюдена мера, нет и следа чванства. Чтобы усилить восточный колорит, поэт приводит огромное число своеобразно звучащих персидских имен – и ни единого греческого. Не упомянуто даже имя любимца Эсхила Аристида[75], которым поэт всегда восхищался. Победу одержали не хитрость, не мужество, не лучшая стратегия, а боги. Поэт не хулит персов; никто в его трагедии не называет их вероломными. Напротив, они храбры; ведь даже высокомерие Ксеркса, бросающего вызов богам, как бы извиняется молодостью царя, а старый Дарий, вопреки всему, что знал о нем поэт, предстает в пьесе снисходительным, благородным, богоравным властителем. В «Персах» нет опьяняющих криков «ура», но везде ощущается непоколебимое, гордое и естественное доверие к богам и подчинение их воле. «Ни один грек, – писал Генрих Фосс[76], – не постиг идеи Немезиды, карающей людское высокомерие, так возвышенно и так глубоко, как Эсхил; Наполеон, которого обуревала мечта стать коронованным императором Востока и который теперь находится в заточении на острове Эльба, мог бы явиться отличной моделью для его кисти. Когда «Персы» были впервые поставлены в Афинах, это произвело, по-видимому, огромное, совершенно невероятное впечатление. На сцене появлялся вестник и начинал рассказывать матери Ксеркса об ужасном поражении многотысячного войска, переходя от жалобного пиано до громового фортиссимо. Каждое слово Эсхила становится хвалебной, величальной песней ничтожной горстке греков, которые, доверившись богам и преисполнившись священного мужества, одержали победу над дикой ордой. По этому случаю была изваяна статуя Немезиды – из той самой глыбы мрамора, которую персидский царь вез с собой, чтобы воздвигнуть памятник в честь победы над греками».
«Персов» легко упрекнуть в недостатке действия. Можно сказать, что пьеса эта – не что иное, как бесконечный ряд вариаций на тему: «Ах! Мы, бедные персы, побеждены!» Прекрасно, но каковы эти вариации! Тут и грандиозный рассказ о битве при Саламине, и странная, скорбная, западающая в душу песня, взывающая к мертвому Дарию в Аиде; тут и мрачное, покорное судьбе пророчество старого царя, тут и архаически-безыскусное, задушевное прославление прежних времен, тут, наконец, по-восточному дикая, натуралистическая траурная оргия в конце; тут вся эта бурлящая, стонущая, визжащая, кричащая, ревущая, бросающаяся наземь, рвущая на себе волосы, в кровь раздирающая себе грудь толпа, опьяненная вакханалией экзотически неистовой скорби.
И выражено это на языке Эсхила, у которого все становится движением, образом, приобретает наглядность, жизнь, душу. И выражено это в протяжных, громоподобных сенариях[77], в необычайно впечатляющем чередовании хоровых строф, которые, при всей их необузданной мощи, способны отлично передать любую смену настроений. Смелость его аллитераций, его звуковая живопись не поддаются переводу. Его на редкость органичные восточные восклицания обогащают яркую гамму стенаний персов, доводя их до гротеска, за что, кстати, Аристофан зло высмеивал поэта. Но Эсхилу дозволено доходить до самой высшей грани, а нам, людям сегодняшнего дня, остается лишь восхищаться безошибочностью его вкуса. Где тот режиссер, который смог бы найти столь точную меру сценического воплощения этой траурной восточной оргии, укрощенной в эллинских ритмах?