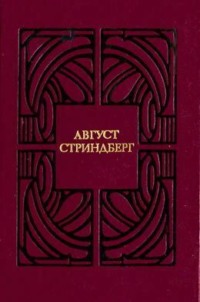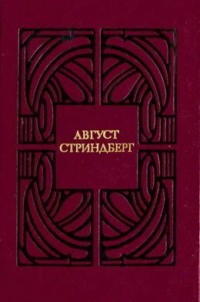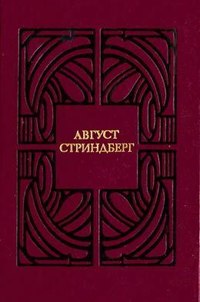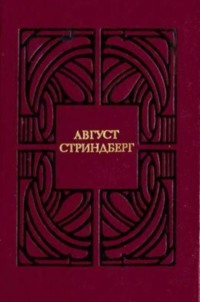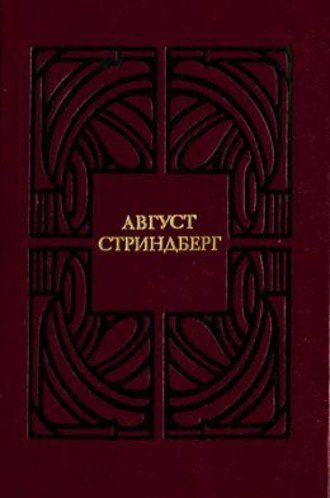 полная версия
полная версияОдинокий

Август Стриндберг
Одинокий
I
Десять лет жил я в провинции, но вот нынче я вновь в родном городе и сижу за обедом в кругу старых друзей. Каждому из нас за пятьдесят или около того, лишь самым молодым в нашей компании едва перевалило за сорок. Все мы удивлены, что нисколько не постарели со времени нашей последней встречи. Правда, кое у кого в бороде и на висках поблескивает седина, но зато другие с последнего раза даже помолодели, и эти-то признались, что годам к сорока ощутили в своей жизни странную перемену. Они вдруг почувствовали себя старыми и решили, что жизнь их уже на исходе, наперебой отыскивали у себя мнимые недуги, с трудом натягивали пальто на окостенелые плечи. Все вокруг казалось им старым и обветшалым, все повторялось и возвращалось на круги своя, да еще грозно напирало молодое племя, нисколько не считаясь с заслугами старших, и, что всего обидней, заново открывало для себя то, что давно уже было открыто нами, а что и того хуже – молодые преподносили свои старые новости так, будто никто о них прежде и не слыхивал.
Перебирая воспоминания, относящиеся к дням нашей юности, мы погружались в прошлое и воистину заново переживали былое, словно бы переместившись на двадцать лет назад, так что иные из нас даже задавались вопросом: а существует ли вообще время?
– Ответ на это дал еще Кант, – пояснил один из нас, философ. – Время – всего лишь способ восприятия действительности.
– Вот как! А ведь и я так думал: стоит мне вспомнить мельчайшие происшествия сорокапятилетней давности – и они встают передо мной так отчетливо, словно случились вчера: события детства столь же свежи в моей памяти, как и всё, что я пережил в минувшем году.
Тут стали гадать: а не думали ли этак во все времена? Один из нас, семидесятилетний – единственный, кого мы в нашем кружке считали стариком, заметил, что еще не чувствует бремени лет (совсем недавно он взял себе новую жену, и младенец его еще лежал в люльке). Услышав это бесценное признание, мы и вовсе почувствовали себя мальчишками, и вся дальнейшая наша беседа и вправду была пронизана молодым задором.
Хоть я и вынес из первой встречи впечатление, что мои друзья странным образом нисколько не изменились, все же я заметил, что они уже не смеялись с былой непосредственностью и в речах соблюдали известную сдержанность. Они уже успели осознать власть и вес изреченного слова. Вряд ли с годами у них притупилась резкость суждений, но зато они сполна усвоили житейскую мудрость – что все твои слова неизбежно обернутся против тебя – и поняли: нельзя выкладывать напрямик все, что думаешь о людях, приходится иной раз прибегать к полунамекам, чтобы хоть как-то высказать свое мнение о человеке. Нынче же мои приятели отбросили все тормоза, перестали стесняться в выражениях и не щадили чужих взглядов, словом, вернулись к прежним обычаям – и понесло, поехало, но притом всем было весело.
Тут вдруг наступила пауза, за ней – вторая, третья, после чего воцарилась зловещая тишина. Самые горластые из нас смутились, словно боясь, что за такие речи поплатятся головой. Они знали: в минувшие десять лет каждый исподволь завязал новые связи, и отныне приятелей разделяют новые, неведомые интересы, а значит, все, кто дал волю языку, неизбежно должны наткнуться на подводные рифы, а не то задеть тайные нити, потоптать свежие всходы новых чувств, – и они не преминули бы это заметить, если бы только видели, как ощетинивались колючими взглядами собеседники, готовясь к защите и отпору, как дергались у них углы губ, то и дело сжимавшихся, чтобы не дать сорваться резкому слову.
Когда встали из-за стола, всем показалось, что возникшая было близость угасла. Настроение упало, собеседники изготовились к защите и словно бы вновь застегнулись на все пуговицы, но коль скоро считали необходимым продолжать разговор, посыпались пустые фразы, что видно было по взглядам, не вязавшимся со словами, и по улыбкам, опровергаемым выражением глаз.
Вечер невыносимо затянулся. Единичные попытки друзей оживить старые воспоминания, то ли сгрудившись в кружок, то ли в беседах с глазу на глаз, проваливались одна за другой. По неведению все спрашивали друг друга о том, о чем никак нельзя было спрашивать. Например:
– А как поживает твой братец Герман? (Вопрос задан просто так, мимоходом, без всякого интереса. Но в кружке возникло явное замешательство.)
– Спасибо за память! В основном – без изменений: особых
Улучшений не видно.
– Не видно улучшений? Так он что, болен?
– Да… а ты разве не знал?
Тут другой приятель своевременным вмешательством в разговор спас несчастного брата от тягостного признания, что Герман повредился умом.
А вот и другой пример:
– Так где же жена твоя, что-то ее нынче не видно? (А жена его только что подала на развод!)
Или вот еще:
– Сын твой совсем уже большой, должно быть, в студентах ходит? (А родители давно потеряли всякую надежду на это.)
Словом, слишком долго мы не видались, и оттого разговор не клеился. К тому же за эти годы каждый успел вкусить суровость и горечь жизни, – само собой, мы ведь не мальчики…
Когда же наконец стали прощаться у ворот, всем не терпелось скорее разойтись и никому уже не хотелось продлить встречу в кафе, как делали в прошлом. А все потому, что воспоминания юности не произвели ожидаемого живительного действия. Ведь прошлое было лишь подстилкой, на которой произросло настоящее, и подстилка уже успела сопреть: субстрат истощился и заплесневел.
И тут все заметили, что никто больше не заговаривает о будущем – по той простой причине, что все уже пребывали в этом вожделенном будущем, а значит, не могли уже о нем мечтать.
* * *
Спустя две недели я вновь очутился за тем же столом, в том же обществе и на том же месте. За эти две недели каждый успел приготовить ответы на высказывания собеседников, которые в прошлый раз из вежливости не стал опровергать. Все явились во всеоружии, и дело пошло как по маслу. Кто устал, или ленился спорить, или же вообще предпочитал разговорам вкусный обед, тот уклонялся от споров и уходил, так и не возмутив тишины, но иные, более воинственные, ринулись в бой. Предметом спора избрали тайное кредо, которое в свое время исповедовал каждый, хоть никто никогда и не провозглашал его с достаточной четкостью, и теперь приятели обвиняли друг друга в отступничестве.
– Нет, никогда не был я атеистом! – крикнул один из гостей.
– Не был атеистом? Как бы не так!
И тут разгорелась дискуссия, уместная разве что лет двадцать назад. Спорщики пытались осознать все, что в блаженные времена юности бессознательно пробивалось наружу. Сплошь и рядом, однако, подводила собеседников память; все давно успели позабыть, что в свое время делали и говорили, неверно цитировали самих себя и других и галдели наперебой. Но после очередной паузы кто-то вскоре снова принимался за старое, и разговор стал походить на сказку про белого бычка. И снова смолкали спорщики, и снова кидались в бой!
На этот раз все разошлись с чувством, что с прошлым покончено, а коль скоро каждый давно сам себе голова, стало быть, самое время деревцу покинуть питомник и отныне самостоятельно произрастать на воле, где нет ни садовника, ни садовых ножниц, какого-либо принудительного распорядка.
Так получилось, что иные из нас сделались одинокими, должно быть, и всегда так оно получалось. Но встречи на этом еще не совсем прекратились: кое-кто не желал останавливаться в своем росте, по-прежнему рвался вперед, к новым открытиям, к завоеванию новых, неведомых миров, и эти-то сплотились в тесный кружок и местом своих сборищ избрали кафе. Поначалу, правда, пробовали собираться дома, то у одного, то у другого из членов кружка, но скоро убедились, что у каждого, что называется, «пиджак на подкладке», и имя этой подкладке – «супруга». Вот подкладка-то, по обыкновению, и тянула в швах. В присутствии хозяйки полагалось говорить «на другие темы», а стоило кому-то забыться и завести разговор о своем, о главном, как тут же происходило одно из двух: или жена сама брала слово и непререкаемым тоном разрешала всякий спор, и тут уж приходилось учтивости ради помалкивать, или же она вскакивала и выбегала в детскую и больше за весь вечер не показывалась за столом, где с этой минуты гость чувствовал себя чем-то вроде нищего попрошайки или непрошеного прихлебателя, а хозяйка отныне смотрела на него так, словно он пытался куда-то сманить ее мужа, увести его от жены и детей, веры и долга.
Этаким путем, значит, дело не заладилось, да и вообще приятелей чаще всего разлучала взаимная неприязнь их жен. Женщины ревниво придирались друг к другу.
Оставалось, стало быть, одно – кафе. Странным образом, однако, оно утратило для друзей былую привлекательность. Конечно, они пытались уверить себя, что обрели здесь нейтральное место сборищ, где нет ни хозяев, ни гостей, а все же семейным было не по себе от мысли, что жена тем временем сидит дома, словно она и вправду одинока, ведь и она могла бы сыскать себе подходящее общество, а вот нынче обречена торчать одна в четырех стенах. К тому же кафе по большей части посещали холостяки, иными словами – своего рода враги семейных, лишенные собственного Домашнего очага, и, стало быть, пользующиеся в здешнем заведении известными правами. Они и вели себя здесь как дома, шумели, смеялись раскатисто, а на женатых смотрели чуть ли не как на захватчиков, вторгшихся сюда незаконно, словом – те им Мешали.
Будучи вдовцом, я полагал, что имею кое-какое право на кафе, Но лучше бы у меня его не было: заманивая туда женатых приятелей, я вскоре заслужил этим ненависть их жен, которые и вовсе передали приглашать меня к себе в дом. Что ж, может, и поделом, ибо Де муж с женой, там третий – лишний.
Если же приятели все же приходили в кафе, то сплошь и рядом бывали так озабочены своими домашними делами, что сначала я всякий раз должен был выслушивать их жалобы на слуг и детей, в школу и экзамены, и они так основательно вовлекали меня в свои семейные дрязги, что я уже не видел никакого выигрыша в том, что избавился от своих собственных.
Когда же наконец мы приступали к главному, к важным вопросам, волновавшим нас, то чаще всего кто-то один заводил монолог, а другой между тем сидел, потупив взор и дожидаясь лишь, когда придет его черед взять слово, чтобы тут же заладить о чем-то своем, нимало не заботясь ответить на речи первого: что называется «ему про Фому, а он про Ерему». А не то вдруг поднимался воистину адский грохот: все галдели разом и никто, казалось, другого не понимал. Поистине – вавилонское смешение языков, завершавшееся перебранкой и полным взаимным непониманием.
– Ты же не понимаешь, что я говорю! – раз за разом в отчаянии восклицал кто-то.
И правда! С годами каждый привык насыщать новым смыслом старые слова и по-новому оценивать старые мысли, да к тому же никто не хотел открывать заветную свою думу, которую хранил в душе, как сокровенную тайну, как росток будущего, ревниво оберегаемый от чужих глаз.
Возвращаясь поздним вечером домой после такой встречи в кафе, я хорошо сознавал никчемность этих бурных сборищ, где, в сущности, каждый желал лишь услышать собственный голос и навязать свое мнение другим. Голова у меня раскалывалась, а мозги, казалось, кто-то разрыхлил да засеял сорняком, который необходимо выполоть, покуда он не пошел в рост. Дома, в уединении и тишине, я вновь обретал самого себя и окунался в мою собственную духовную атмосферу, где мне дышалось привольно, как в ладно пригнанном платье, и, отдав около часа раздумьям, погружался затем в небытие сна, свободный от всех влечений, помыслов и желаний.
Мало-помалу я перестал посещать кафе, приучая себя к одиночеству, затем вновь поддавался соблазну, с каждым разом все больше раскаиваясь в этом, пока наконец не открылось мне великое счастье: слушать тишину и внимать новым голосам, в ней звучащим.
II
Так мало-помалу сделался я одиноким и должен был довольствоваться беглым общением, к которому вынуждала меня моя работа, – общением преимущественно по телефону. Не скрою: тяжко было мне поначалу, и пустота, сомкнувшаяся вокруг меня, настойчиво требовала заполнения. Когда я обрубил все связи с другими, мне поначалу казалось, будто меня оставили силы, но одновременно мое «я» стало крепнуть, словно сгущаясь вокруг некой основы, вместившей в себя все пережитое мной, где оно плавилось и откуда растекалось, даря пищу душе. Все, что я видел и слышал – в доме, на улице или на лоне природы, – все мои впечатления я приучился переплавлять в работу и чувствовал, как растет мой труд и насколько уединенные занятия плодотворней всех прежних моих попыток изучать человека на людях.
В прошлом мне случалось иметь свой дом и семейный очаг, но нынче я снимаю две комнаты с мебелью у вдовы. Мне потребовался некоторый срок, – пусть недолгий, – чтобы сжиться с чужой обстановкой. Трудней всего оказалось обжить и освоить письменный стол, – покойный судья сидел за ним верных три десятка лет, корпя над протоколами. Он оставил на нем следы своих цианисто-синих чернил, уже один вид которых мне противен; правым локтем стер политуру, а слева приклеил кружок клеенки чудовищных желто-серых тонов, чтобы ставить на него лампу. Все это крайне мне неприятно, но я решил ко всему притерпеться и скоро уже перестал замечать уродливую заплату. А кровать… когда-то я мечтал о собственном постельном белье, но нынче, хоть я и мог бы себе это позволить, я ничего не хочу покупать; ведь ничего не иметь – одна из граней свободы. Ничего не иметь, ничего не желать – значит стать неуязвимым для злейших ударов судьбы. Но притом располагать деньгами и в силу этого знать, что можешь получить желаемое, стоит тебе лишь захотеть, – вот это счастье, потому что за ним кроется независимость – еще одна грань свободы.
На стенах развешено пестрое собрание скверных картин, а также и литографий и даже хромолитографий. Сначала я возненавидел их за уродство, но вскоре они обрели в моих глазах неожиданную привлекательность. Однажды, трудясь над очередным опусом, я вдруг почувствовал, что иссяк и не могу сочинить решающую сцену, и тут в отчаянии я вскинул глаза на стенку. И взор мой приковался к чудовищной репродукции, в свое время, несомненно, служившей приложением к какому-нибудь иллюстрированному журналу. На ней был изображен крестьянин, который стоял у причала, держа на привязи корову, и должно быть, собирался сесть на некий невидимый мне паром. Человек этот, одиноко стоявший на мостках, исступленно махал кому-то, цепко придерживая единственную корову, и в глазах его было отчаяние… Вот она, моя сцена! Но в здешних комнатах была еще и тьма мелких вещиц из тех, что скапливаются в каждом доме, источая аромат воспоминаний, притом вещиц не покупных, а сработанных любящими руками. Салфеточки на спинках кресел, накидки, стеклянные и фарфоровые безделушки на этажерках. Среди них бросился мне в глаза большой кубок с надписью: от благодарных таких-то. Вещицы эти излучают радушие, признательность, может, даже любовь, – и правда, спустя всего несколько дней мне стало казаться, будто здешние стены привечают меня. Все это добро некогда принадлежало другому, но нынче я принял наследство от мертвеца, с которым при жизни его даже не был знаком.
Хозяйка моя, сразу подметившая, что я не из болтливых, выказывала деликатность и такт и всегда спешила убрать мою комнату к тому часу, когда я возвращался с утренней прогулки, и, здороваясь, мы ограничивались дружелюбными кивками, заменяющими уйму фраз: Как поживаете? – Спасибо, хорошо! – Нравится вам у меня? – Весьма! – Рада слышать!
Спустя неделю она все же не утерпела и спросила, нет ли у меня каких-либо пожеланий: если что нужно, мне достаточно лишь сказать…
– Нет, сударыня, у меня нет никаких пожеланий, я всем доволен.
– Гм. А я, признаться, думала… я ведь знаю, как подчас капризны мужчины…
– Я давно уже отвык от капризов!
Хозяйка смерила меня любопытным взглядом – должно быть, слышала про меня иное.
– Скажите, а еда вам по вкусу?
– Еда? Признаться, я даже и не заметил! Стало быть, еда – отменная.
Сущая правда! Все обслуживание было отменным. Мало того – я ощущал бережную заботу, какой прежде никогда не встречал.
Спокойно, тихо, привольно текли мои дни, и хоть временами меня и тянуло заговорить с хозяйкой, особенно когда она смотрела так грустно, все же я поборол искушение, из страха приобщиться к чужим заботам, но также из уважения к тайнам чужой жизни. Мне нравились наши безличные отношения, и я предпочитал, чтобы ее прошлое и впредь оставалось для меня окутанным неизвестностью. Стоит мне узнать ее историю, – вся обстановка комнат приобретет иной облик, чем тот, который я ей навязал, и сотканная мною картина тотчас расползется; стол, стулья, буфет, кровать – вся здешняя мебель сделается реквизитом в драмах вдовы, которые будут сниться мне по ночам.
Нет, все это отныне мое, пропитано моим духом, и реквизит нужен мне для моей пьесы. Моей!
* * *
Нынче я даже обзавелся неким безличным общением, причем самым что ни на есть простым способом. Этих незнакомых знакомых, с которыми я не раскланиваюсь, поскольку не знаю их лично, я обрел в итоге утренних моих прогулок. Первым на моем пути возникает майор. Майор он, правда, отставной, уже получает пенсию, а стало быть, ему никак не меньше пятидесяти пяти лет. И он, значит, гражданское лицо. Мне известно его имя, да и рассказывали мне о нем кое-что, относящееся к дням его молодости. Он холост – это я тоже знаю. Как я уже сказал, он теперь в отставке и, стало быть, живет без всякого дела, дожидаясь своего смертного часа. Но он смело шагает навстречу судьбе – высокий, статный, с могучим торсом под почти всегда расстегнутым пальто, прямодушный, мужественный человек. У него темные волосы, черные усы и упругая походка, настолько упругая, что я весь будто подтягиваюсь при встрече с ним, да и вообще, вспоминая, что ему уже пятьдесят пять, я словно бы молодею. Мне даже кажется, по тому, как он глядит на меня, что я ему не противен, что, может, он даже расположен ко мне. А спустя какой-то срок он и вовсе стал казаться мне старым знакомцем, которому мне всякий раз хотелось кивнуть. Но есть между нами одно различие: он уже отслужил свой срок, я же по-прежнему в самом горниле борьбы и всем своим существом, да и каждодневной работой, устремлен в будущее. Так что тщетно стал бы он искать сочувствия у меня, как у товарища по несчастью. Чего-чего, а уж этого я никак не намерен допускать. Правда, у меня на висках седина, но стоит мне лишь захотеть – и завтра же волосы у меня будут такие же черные, как у него, да только я не помышляю об этом, – ведь у меня нет женщины, перед которой я должен был бы рисоваться. К тому же, сдается мне, волосы его лежат слишком ровно, что способно возбудить подозрение, зато мои волосы неподдельны бесспорно.
Есть у меня на примете еще и другой человек, приятный мне уже тем, что я понятия не имею, кто он. Ему наверняка уже перевалило за шестьдесят, и волосы и борода у него совершенно седые. Поначалу, в дни наших первых встреч, казалось, что чем-то знакомы мне эти черты, это лицо человека с больной печенью, вся фигура его, – и всякий раз я спешил ему навстречу с чувством симпатии и сострадания. Должно быть, думал я, он сполна изведал горечь жизни, пытаясь плыть против течения, боролся и был побежден, а нынче ему выпало жить в новое время, исподволь, неприметно утвердившееся в жизни, – время, от которого он отстал. Должно быть, он не может отринуть идеалы юности, ведь они ему дороги, да и к тому же это верные идеалы… бедняга! Он убежден, он знает, что шел верным путем, – это современники его заблудились, зашли в тупик… Трагедия!
Но как-то раз, взглянув ему в глаза, я понял, что он меня ненавидит, может, потому, что уловил сострадание в моем взгляде, и это-то больше всего оскорбило его. Он даже презрительно хмыкнул, поравнявшись со мной. Что ж, может, сам того не подозревая, я когда-то обидел его самого, а не то его близких, каким-то образом бездумно вмешался в его судьбу, но может ведь быть и другое: может, попросту мы были с ним когда-то знакомы? Он ненавидит меня, и странным образом мне кажется, будто ненависть его мной заслужена, но я больше никогда не взгляну ему в глаза – слишком уж они колючие и к тому же будят во мне чувство вины. Но, может, мы с ним просто родились врагами, может, классовые и расовые различия, разница в происхождении и взглядах воздвигли между нами стену, присутствие которой мы ощущаем оба. Опыт научил меня в гуще уличной толпы сразу отличать врага от друга, ведь иные прохожие, сплошь и рядом вовсе незнакомые люди, излучают такую враждебность, что я всякий раз перехожу на другую сторону улицы, чтобы только не столкнуться с ними лицом к лицу. У одиноких чувствительность обострена необычайно: стоит лишь донестись с улицы голосу человека – и я сразу же отзываюсь на него радостным или неприязненным чувством, но иной раз не чувствую ничего.
И еще третий знакомец есть у меня. Он обычно ездит верхом, и я киваю ему, ведь он знаком мне еще с университетской поры, я, кажется, знаю его фамилию, вот только имя его плохо помню. Я не разговаривал с ним верных лет тридцать, мы только раскланиваемся на улице, иногда улыбаемся в знак того, что узнали друг друга, а уж у него под большими усами добрая такая улыбка. Он носит мундир, и с годами все больше прибавляется ободков яркой тесьмы на его фуражке, да и пышнее становится весь позумент. Совсем, недавно, после десятилетнего перерыва, я снова встретил его: он ехал верхом, а позумента на его мундире было так много, что я не посмел поздороваться с ним из страха, что он мне не ответит. Но, должно быть, он это понял, и придержав коня, крикнул мне:
– Здравствуй, ты что, не узнал меня?
Да что там, узнал, конечно, и, раскланявшись, мы оба проследовали каждый своим путем, и с тех пор мы снова киваем друг другу. Как-то раз утром мне почудилась под его усами странная, непривычно подозрительная усмешка. Я не знал, должен ли я отнести ее на свой счет, настолько мне это казалось нелепым. Впрочем, должно быть, все это лишь померещилось мне – думал ли он, что я думаю, что он заважничал, или сам он заподозрил меня в высокомерии. Меня? В высокомерии? Что ж, не так уж и редки случаи, когда сам человек ни в грош себя не ставит, а молва приписывает ему смертный грех гордыни.
* * *
Еще есть у меня знакомая пожилая дама, у нее две собачки, которые часто выводят ее на прогулку. Всякий раз, когда они останавливаются, вместе с ними останавливается и она, они же останавливаются у каждого фонаря, у каждого дерева, у каждого перекрестка. Я всегда вспоминаю рассуждения Сведенборга [1], когда вижу ее: вспоминаю человеконенавистника, сделавшегося одиноким настолько, что принужден был искать общества зверей, – и думаю, что судьба покарала эту женщину странной аберрацией. Она вообразила себя повелительницей этих двух грязных собак, – на самом же деле это собаки заставляют ее исполнять все их капризы. Про себя я называю ее Владычицей Мира или еще Защитницей Вселенной, – такой у нее вид: она ходит, надменно вскинув голову, но притом не отрывает взгляда от земли.
А еще есть у меня старушка, которую я изредка подкармливаю десятками: по-моему, она колдунья. Появляется она редко, но неукоснительно всякий раз, как мне случится получить сравнительно крупную сумму денег или же когда мне грозит опасность. Я никогда не верил в дурные приметы и во всякую подобную чепуху, никогда не поворачивал назад при виде старухи и не плевал через плечо, когда мне перебегала дорогу черная кошка. Точно так же я никогда не пинал ногой приятеля, затеявшего новое предприятие с сомнительным исходом, а, наоборот, от всей души желал ему счастья и хлопал его по плечу. Совсем недавно я именно так и поступил с одним из моих просвещенных друзей-актеров. Он же зашипел на меня, резко обернулся и, сверкая глазами, сказал: «Цыц! Молчи! А не то сглазишь!» Я же отвечал: «Нет, от добрых пожеланий беды не будет, хоть, может, не будет и пользы». Он остался при своем мнении, – подобно всем безбожникам, он был суеверен. Да, уж эти неверующие верят решительно всему, без разбора, да только толкуют все шиворот-навыворот. Приснится им ночью приятный сон – говорят: не к добру, а привидится какая-нибудь мерзость – говорят: это к деньгам. Я же не придаю значения каким-то пустячным снам, но уж если сон преследует меня, я толкую его в том же смысле, да еще и как некий знак, предвещающий, что ждет меня впереди. Словом, ночной кошмар для меня – предостережение, а прекрасный сон – благая весть или же утешение; все это в полном согласии с логикой и с наукой: если я чист душой, то и вижу чистые сны, и наоборот. Сны отражают мой внутренний мир, и стало быть, мне дозволено пользоваться ими, как пользуются зеркалом для бритья: зеркало позволяет человеку следить за своими движениями и не дает порезаться бритвой. Точно так же принимаю я и многое из того, что «случается» наяву, – правда, далеко не все. Вот, к примеру, на улицах всегда валяются клочки бумаги, но отнюдь не всякая бумажка привлечет мое внимание. Но уж если какая его привлечет, я не премину тщательно изучить ее, а уж если на ней что-то написано или напечатано и притом как-то связано с тем, что в этот час больше всего меня занимает, тогда я рассматриваю появление этой бумажки как некое воплощение моей сокровенной, еще не родившейся мысли, и тут я, бесспорно, прав: ведь не будь этой мысленной связи между моим внутренним миром и этим предметом из мира внешнего, взаимопроникновение этих двух миров было бы невозможно. Лично я не склонен полагать, что кто-то нарочно разбрасывает для меня бумажки на улицах, но иные люди неминуемо в это поверят, да и как не поверить в это тем, кто признает лишь непреложные факты и дела человеческих РУК.