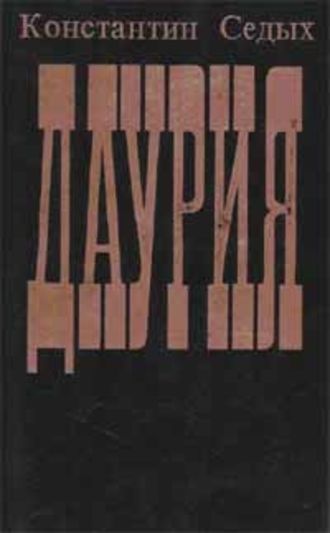 полная версия
полная версияДаурия
И в эту минуту молчавший все время Каргин с особой отчетливостью понял, что здесь, в этой комнате, рушатся сейчас его последние надежды, что становится он все более и более одиноким в своем желании все оставить в жизни по-старому.
После длинной паузы Ладушкин спросил Василия Андреевича, что же он посоветует в заключение делать заговорщикам.
– Мой совет один: если хотите, чтобы кончилась скорее гражданская война, чтобы ушли от нас несолоно хлебавши все интервенты, – осуществляйте свой заговор и переходите к нам. Если будет угодно, мы пришлем к вам на помощь пять-шесть наших лучших полков. И если вы решитесь на этот шаг и чистосердечно будете служить вместе с нами нашей Советской Родине, мы простим и забудем ваши прежние грехи и заблуждения. Сейчас вам, станичники, еще не поздно искупить свою вину. Это я говорю абсолютно всем присутствующим здесь.
– Ладно, подумаем, – сказал Ладушкин.
Кибирев и офицеры угрюмо молчали. Каргин уткнулся лицом в ладони и, казалось, плакал.
– Подумайте, это никогда не вредно, только думать правильно не значит думать долго, – вставая, проговорил Василий Андреевич. – Уже поздно, и нам пора ехать. Надеюсь, что никакой попытки расправиться с нами или задержать нас вы не сделаете? – Он недвусмысленно посмотрел в сторону Каргина и Кибирева.
– Конечно, нет, – надменно бросил Кибирев, хотя именно о том и думал. С лихорадочной быстротой он обдумывал план захвата Василия Андреевича. Это была единственная возможность оправдаться перед контрразведкой за участие в заговоре. Те же самые мысли копошились и у Каргина, который не плакал, а горько досадовал и на себя и на Кибирева за то, что надумали они завести эти переговоры. Каргин не сомневался, что Василий Андреевич многих заставил поверить себе, и он со злобой думал про того лобастого и ничем невозмутимого человека, который знал, что делал.
А Василий Андреевич не спеша оделся, отвесил всем общий поклон и, сопровождаемый Романом и Лукашкой, вышел из зала, оставив заговорщиков в великом смятении и разброде.
XXXI
План переворота был разработан заговорщиками еще до встречи с Василием Андреевичем. Предполагалось осуществить его в ночь на шестое февраля. Расклеенные по городу афиши извещали, что в ту ночь в доме офицерского собрания будет поставлен спектакль, после которого начнутся «танцы до рассвета». Кибирев с отдельной сотней должен был окружить офицерское собрание и арестовать находившихся в нем семеновских и японских офицеров. В это же время Каргин и Андрон Ладушкин со своими сотнями и дивизион Четырнадцатого полка разоружают японский батальон на кожевенных заводах. Восьмой казачий полк и олочинская дружина нападают на японцев, расквартированных в городе. В случае необходимости орудия двух казачьих батарей, стоявшие в капонирах повыше собора и во дворе начальной приходской школы, прямой наводкой расстреливают занятые японцами здания. Второй дивизион Четырнадцатого полка и чалбутинская дружина нападают на паровую мельницу, занятую также японским батальоном.
Японцев же, которые находились на сопках, оставляли до утра. В случае успешного поворота в городе они при любых обстоятельствах должны были погибнуть или сдаться. Батарейцы обещали разнести их избушки с первых же снарядов. Остальное довершил бы суровый горный мороз. Утром же предполагалось освободить и всех заключенных, из которых Кибирев думал сформировать чуть ли не полк.
Но встреча с Василием Андреевичем показала, что участники заговора тешили себя совершенно несбыточным. Воочию убедились они, что партизанами руководят большевики. Это сразу же заставило всех офицеров отказаться от переворота. Охладели к нему и Каргин с Кибиревым и без конца раскаивались в том, что на переговоры с Василием Андреевичем пригласили слишком много людей. Немало дружинников после этого стали всерьез подумывать о том, чтобы перейти к партизанам. Офицеры же порвали с Кибиревым всяческие сношения и поглядывали на него довольно косо. В любую минуту он и Каргин ждали предательства с их стороны. Каргин предлагал ему бросить все и бежать за границу, но тот почему-то не решался на это.
А четвертого утром случилось то, чего они так боялись.
Восьмой и Четырнадцатый полки были подняты по тревоге и ушли из города на Орловскую. Сразу же после их ухода в улицах появились японские патрули. На выездах из города встали заставы. С крыши здания, где находился японский штаб, начали передавать флажками какие-то сигналы на «Крестовку» и другие сопки. Каргин и Ладушкин приказали своим сотням заседлать лошадей и скрытно выставить часовых. Предусмотрительный Андрон распорядился в занимаемой им усадьбе разобрать несколько заборов, чтобы приготовить на всякий случай прямую дорогу за город.
Каргин, изнывавший в неведении, послал двух дружинников на квартиру к Кибиреву. Сам он пойти туда не рискнул. Дружинники вернулись в сумерки и сообщили: Кибирев арестован еще ночью вместе с женой, отдельная сотня только что разоружена японцами.
Каргин немедленно перевел свою полусотню в усадьбу к Ладушкину. Там он сказал казакам:
– Не все вы, братцы, знаете, что происходит. Хотели мы японцам и нашим отпетым карателям устроить жаркую баню и взять власть в свои руки. Только не выгорело это. Сейчас мы оставляем Завод. Тот, кто хочет остаться здесь, пусть остается. Мы будем с боем прорываться через заставу.
– А куда же пойдем? – спросил Егор Большак.
– Должно быть, за границу.
– Ну, тогда нам не по пути. Я в другое место попробую податься.
Остаться пожелало человек тридцать. Они разъехались по своим квартирам, расседлали лошадей и попрятались по домам. С остальными Каргин начал через дворы выбираться на задворки, к кустарникам. Там уже дожидался его Андрон со своей сотней, которая уходила вся до одного человека.
Посовещавшись, решили прорываться в конном строю через заставу на перевале.
Японец-часовой на заставе, завидев их, выстрелил в воздух. Из избушки начали выбегать и ложиться в цепь японские солдаты. Мешкать было нечего. Каргин вырвал из ножен шашку и скомандовал:
– За мной, братцы!
Японцы, не успев выкатить пулеметов, встретили сотни ружейным огнем. Но успели они дать только два залпа. Дружинники доскакали до цепи и начали гоняться за японцами по кустам, рубя их шашками, топча конями. Скоро вся застава была уничтожена.
Но далось это недешево. Сотни потеряли больше тридцати человек. Одним из них оказался смертельно раненный в грудь Капитоныч.
Когда его сняли с седла и Каргин стал расстегивать его полушубок, чтобы попытаться перевязать его, Капитоныч сказал:
– Не надо. Сейчас помирать буду. Поезжайте с Богом, да не поминайте меня лихом. – На губах его показалась кровь и потекла на седые усы.
Каргин поцеловал его в лоб, сказал:
– Прости, брат Капитоныч… – И разрыдался. Капитоныча он глубоко уважал.
Отскакав от Завода верст на восемь по направлению к Аргуни, Ладушкин спросил Каргина:
– Куда уходить будем? По-моему, одна дорога – к партизанам. Виноваты мы перед ними, да покорную голову меч не сечет.
– Нет, я, Андрон, к партизанам не пойду. Меня они не пощадят.
– Так куда же ты думаешь?
– За границу.
– Ну, значит, расходятся наши пути-дороги. Я за границу не поеду. Если не помилуют меня партизаны, умру, да не в китайщине… Большой ты мне друг, Елисей! С кровью я тебя оторву от сердца, а вот от родной земли, от этих падей и сопок мне и с кровью не оторваться. Без нее мне не жить. Прости, брат, и прощай.
– Смотри, смотри, дело твое, – сухо отозвался Каргин.
А Андрон смахнул рукавом полушубка закипевшие на ресницах слезы и обратился к дружинникам:
– Я, братцы, решил к партизанам. Кто со мной – давай налево.
Половина его сотни отъехала с дороги влево. Из мунгаловской сотни также десятка три людей двинулись налево.
Все остальные решили идти с Каргиным за границу. Сняв с голов папахи, казаки распрощались друг с другом – одни на время, другие навсегда.
XXXII
В феврале Мунгаловский раз десять переходил из рук в руки. Четвертый и Восьмой партизанские полки воевали здесь с Азиатской дивизией барона Унгерна и Шестым Забайкальским полком. Обе стороны старались застигнуть друг друга врасплох, и бои происходили чаще всего по ночам. В боях жителям Мунгаловского доставалось не меньше, чем воюющим. Особенно плохо им было, когда наступали белые. Подойдя к поселку, они начинали палить из орудий. Снаряды калечили и убивали скот, зажигали дома и ометы соломы в гумнах. Партизаны, боясь окружения, сломя голову отходили на Орловскую, а жители лезли в подполья. Белые занимали поселок, а затем через сутки-другие их так же лихо вышибали из него партизаны.
Но наконец незадолго до событий в Нерчинском Заводе партизаны вынуждены были отойти на Уров. У них совершенно вышли запасы патронов, а обзавестись ими за счет противника не удалось. В поселке обосновался тогда на длительную стоянку Шестой Забайкальский полк.
Полк этот считался у Семенова вполне надежным. В нем не было еще случаев перехода казаков на сторону партизан. Костяк его составляли сыновья караульских богачей-скотоводов. Воевали они плохо, но любили пороть и грабить мирное население, не разбираясь – на чьей оно стороне. Грабили все, что плохо лежало, возили награбленное сбывать китайским купцам.
Больше всего процветала в полку охота за молоденькими ягнятами, из шкурок которых получались щеголеватые папахи. У каждого казака имелось в переметных сумах несколько сырых и уже выделанных ягнячьих шкурок. Они играли на шкурки в карты, меняли их на вино.
У Козулиных стали на постой восемь казаков. Обосновались они в горнице, наполнив ее неистребимым запахом солдатчины. Скоро все цветники были набиты окурками, крашеный пол загажен, а на печке развешены портянки и рукавицы, расставлены мокрые катанки.
Вечером, накормив казаков ужином, Дашутка пошла в свое зимовье взглянуть на ягнят и кур. Еще с крыльца услыхала она в зимовье какую-то возню. Недоумевая, в чем дело, приблизилась она к зимовью и увидела, что дверь его распахнута настежь. «Неужели собака туда забралась?» – подумала Дашутка и, схватив суковатую палку, смело подошла к двери. В ту же минуту на нее набросился из-за угла какой-то человек, зажал ей рот и грубо впихнул в зимовье, где дико метались потревоженные ягнята. Затем мимо нее пробежали из зимовья еще два или три человека. Они захлопнули дверь и заложили засов снаружи. Дашутка закричала «караул» и не помня себя выбила заледенелое окошко, с трудом вылезла через него и с криком побежала в дом.
При ее появлении казаки-постояльцы переглянулись между собой, похватали винтовки и выбежали в ограду. Скоро ни с чем вернулись назад и посоветовали Афафене держать ягнят в избе. Но на следующую же ночь эти казаки, куда-то сходив, возвратились с задушенными ягнятами в торбах. Утром Дашутка узнала, что у Каргиных и Мунгаловых утащили в ту ночь из зимовья всех ягнят.
На вторую неделю пребывания полка в Мунгаловском с севера опять стали ежедневно наведываться партизанские разъезды. Появлялись они обычно по обогреву и завязывали перестрелку с заставами белых.
Командир полка полковник Щеглов приказал заставам не выпускать из поселка на север никого из мунгаловцев, чтобы они не имели возможности сноситься с партизанами. Жители не могли привезти ни дров, ни сена и кормили скот соломой, а печки топили заборами и постройками.
У Козулиных дрова еще были, но сено вышло. Дашутка кормила овец и коров соломой и с горечью видела, как худели они от такого корма. Тогда-то и решилась она съездить за сеном, которое стояло у них в зародах в четырех верстах от поселка около тракта на Уров. Мать всячески отговаривала ее от такой затеи, но Дашутка договорилась с казаками, стоявшими у них, что в тот день, когда они будут находиться в заставе, они выпустят ее из поселка.
Однажды после ужина казаки стали собираться на заставу. Уходя, они сказали Дашутке:
– Если хочешь, завтра можешь съездить за сеном. Мы тебя пропустим. Только выезжай пораньше.
Дашутка проснулась задолго до рассвета. На заиндевелых окнах серебрился свет ущербного месяца, в соседних дворах заливисто тявкали собаки. Зевая и потягиваясь, прошлепала она босыми ногами по кухне. На теплом припечке нашарила спички и стала растапливать печь. Сложенные с вечера в печку дрова хорошо просохли и весело запотрескивали, едва она сунула в них пучок зажженной бересты. Дым синей широкой лентой потянулся в трубу. Из трубы тотчас же закапали черные от сажи капли, и она догадалась, что ночью шел снег. Чтобы не марался шесток, положила на него жестяную заслонку. Потом поставила в печку чугунок с водой. Пока умывалась и причесывалась, вода в чугунке запузырилась и запела на разные голоса.
Позавтракав, Дашутка вышла в ограду. За Драгоценкой смутно краснело над белыми сопками небо. В ограде мягко искрился голубой пушистый снег, шевелились черные тени. Высоко в студеной синеве блестела подкова месяца.
Напоив из ведра гнедуху, обмела ей бока метлой, сбила с копыт железным молотком заледенелые комья снега и стала запрягать в приготовленные с вечера сани.
Только выехала из своих ворот, как повстречала Соломониду Каргину. Заслонясь от резкого ветра черной варежкой, Соломонида крикнула:
– Куда это тебя понесло? Сидела бы лучше дома. Партизаны, того и гляди, опять заявятся. Подымут они перепалку с нашими, и очутишься ты между двух огней.
– Я до партизан вернуться успею. Они ведь только по обогреву ездят, – ответила Дашутка, подымая воротник козлиной дохи.
Макушки сопок ярко алели, когда Дашутка была уже у своего зарода. Зарод с наветренной стороны забило высоким сугробом. На сугробе виднелись вмятины волчьих следов. Она опасливо огляделась по сторонам. Две вороны с простуженным карканьем пролетели над ней к поселку. Она скинула с себя доху, взяла с саней вилы и по заледенелому сугробу поднялась на зарод. Очистив от снега овершье, с трудом разворошила его и стала накладывать воз прямо с зарода. Ветер все время мешал ей. Он парусом надувал ее широкую юбку, бил по лицу концом полушалка, рвал сено с вил. Ей приходилось всячески ухитряться, чтобы сохранить равновесие и удержать в руках тяжелые навильники, с которых сыпалась на полушалок и за воротник колючая труха.
Занятая делом, она не заметила, как к зароду подъехали партизаны на покрытых инеем лошадях, все в дохах и косматых папахах.
– Здорово, молодуха! – гаркнул у нее за спиною насмешливый голос.
Она вздрогнула, и сено с вил упало. Его тотчас же подхватило ветром, развеяло во все стороны.
– Да ты не бойся, не бойся, – сказал пожилой партизан с обметанными инеем бородой и бровями. Другой, помоложе и побойчее, добавил:
– Мы не кусаемся.
– И как это вы тихо подъехали? – спросила Дашутка.
– Такое уж наше дело… А что, белые от вас не ушли?
– Нет, все еще стоят. А вчера к нам новые подъехали.
– И много?
– Кто их знает. Не считала я. Только они всю Подгорную улицу под постой заняли.
– Мужик-то у тебя, молодуха, где? В белых али у нас? – расспрашивал, посмеиваясь, молодой, похлопывая мохнатой рукавицей по седельной луке.
– Его у меня еще в восемнадцатом году под Маньчжурией убили.
Поговорив с Дашуткой, партизаны принялись совещаться. В это время над падью, ярко освещенной солнцем, гулко раскатился ружейный залп. Партизаны повернули и поскакали туда, откуда приехали. Дашутка спрыгнула с зарода и присела на воз. Залпы следовали один за другим. Выглянув из‑за воза, она увидела на ближайшей сопке человек тридцать казаков. Стоя, били они навскидку по партизанам. Им удалось свалить под одним из них коня. Она оглянулась. Потерявший коня партизан сбросил с себя доху и попытался бежать. В это время его посадил к себе в седло другой, и они скрылись из виду за сверкающими кустами.
Казаки стали спускаться с сопки к Дашутке. Это ее сильно встревожило. То, что она разговаривала с партизанами, могло обойтись ей очень дорого. В дикой тоске тыкала она вилами в сено, но никак не могла набрать навильник.
Первым к ней подскакал с винтовкой наизготовку урядник, румяный и круглолицый. На нем был желтый полушубок и белая папаха, лихо сбитая на ухо. Скаля в улыбке кипенно-белые зубы, он добродушно спросил:
– Какие это ты с партизанами разговоры разводила?
– Они вязались ко мне с расспросами, не ушли ли вы из поселка.
– А ты им что сказала?
– Сказала, что не ушли. Да они потом это и сами увидели, как начали вы палить по ним, – улыбнулась Дашутка, успокоенная поведением урядника.
Но следом за ним подъехал с казаками длиннолицый и горбоносый хорунжий. Наезжая на Дашутку конем, хорунжий грубо спросил:
– Ты почему без разрешения из поселка выехала? Свидание здесь красным назначила?
– Никому я не назначала никакого свидания.
– Ладно. В штабе разберемся… Плюхин! – приказал хорунжий уряднику. – Помоги этой бабенке увязать воз и веди ее в поселок. А мы поедем посмотреть, куда девались красные.
Хорунжий ударил нагайкой рыжего с белым пятном на лбу коня и понесся на север. Казаки последовали за ним. Урядник слез с коня и стал помогать Дашутке завязывать воз. Он искренне жалел ее и все время твердил:
– Да… Влипла ты с этим чертовым сеном. Офицеры наши такие собаки, что не приведи Бог.
Едва они выехали на дорогу, как возвратился хорунжий с казаками.
– Поживей! – скомандовал он сидевшей на возу Дашутке и хлестнул нагайкой гнедуху.
В поселке Дашутку доставили прямо в штаб полка. Штаб находился в доме Архипа Кустова.
Командир полка полковник Щеглов, тридцатилетний мужчина с голубыми остекленелыми глазами, бабник и пьяница, завтракал, когда к нему явился с рапортом хорунжий. Выслушав его, Щеглов спросил:
– Баба-то хоть добрая?
– Кровь с молоком, господин полковник!
– Приведи ее сюда. – Щеглов оттолкнул тарелку с недоеденной котлетой и начал ходить по горнице, приводя себя в порядок.
Через минуту хорунжий втолкнул Дашутку в горницу и закрыл за нею дверь. Нарумяненное холодом лицо ее горело, руки теребили концы полушалка.
– Ого! – вырвалось у Щеглова. Он бросил в кадку с фикусом окурок папиросы и строго спросил: – Кто ты такая? Большевичка?
– Что вы, ваше благородие! Какая же я большевичка? Отец мой в дружине с самой весны ходит, – глядя на него со страхом и надеждой, торопливо говорила Дашутка.
– Хорошо. Постараемся выяснить, правду ли ты говоришь. А до выяснения будешь находиться под арестом.
– Да что же тут выяснять-то? Вам здесь любой скажет, кто я такая.
Но у Щеглова было свое на уме. Он позвал хорунжего и велел посадить Дашутку в кустовское зимовье под замок. Едва захлопнулась за нею забухшая, обитая кошмою дверь зимовья, как она в полном изнеможении опустилась на лавку и расплакалась. Выплакавшись, принялась ходить из угла в угол, не находя себе места. На голбце стоял небольшой деревянный ящик с сапожными колодками и инструментами. Она принялась рыться в нем и нашла короткий, сделанный из литовки ножик с обшитой кожей рукояткой. Взяла его и спрятала в правый рукав.
Узнав об аресте дочери, Аграфена Козулина кинулась к соседкам, мужья которых находились в дружине. Скоро человек десять их отправились вызволять Дашутку. Это, возможно, и удалось бы им, если бы Щеглов не получил к тому времени срочного донесения о событиях в Нерчинском Заводе.
Когда допущенные к нему казачки все разом принялись кричать, что он напрасно безобразничает в поселке, где большинство жителей ходит в белых, он с матерщиной оборвал их:
– Врете, поганки длинноволосые! Все ваши мужья переметнулись сегодня на сторону красных. Я теперь за вас примусь. Вы у меня попляшете! – И он приказал ординарцам гнать их.
Дашутка видела в отдушину возле двери, как мать с соседками прошла к Щеглову. Она оживилась и стала надеяться на свое вызволение. Но когда ординарцы нагайками выгнали женщин из кустовской ограды, снова почувствовала себя как птица в западне.
Поздно вечером пьяный Щеглов явился в зимовье. Следом за ним вошел денщик с зажженной лампой в руках. При входе их Дашутка, дремавшая на голбце, испуганно вскочила на ноги. Щеглов взял у денщика лампу и приказал ему убираться. Поставив лампу на печку, он с пьяной икотой сказал:
– Ты, бабонька, не помирай раньше времени. Мы можем с тобой великолепно сговориться. Садись, – показал он на широкую лавку у передней стены, застланную холстиной.
– Ничего, я постою.
. – Садись! – прикрикнул он, и Дашутка покорно опустилась на краешек лавки.
Щеглов уселся рядом с ней и, заглядывая ей нагло в глаза, спросил:
– Ты понимаешь, чего я хочу?
– Давно все поняла.
– Ну вот и хорошо, что ты такая сговорчивая. – И он попытался обнять ее.
– Ты лучше не трогай меня! – сильно толкнув его в грудь, вскочила с лавки Дашутка и отбежала к печке.
Щеглов достал из кармана портсигар, закурил папиросу. Сделав две-три затяжки, изжевал весь мундштук и кинул папиросу в угол. Потом с угрозой сказал:
– Ты не брыкайся много! Либо мы с тобой сговоримся тихо и мирно, либо я спущу на тебя взвод казаков. Выбирай, что лучше.
– Эх ты, ваше благородие! – с презрением бросила Дашутка. – Только и умеешь, что с бабами воевать. Есть ли в тебе хоть капля стыда-то?
– Молчать! – рявкнул Щеглов и пошел на нее.
– Не лезь ты лучше ко мне… – бросилась от него Дашутка к порогу и попыталась открыть дверь. Но она оказалась закрытой снаружи.
– Ну что же, пеняй на себя, – прохрипел Щеглов и позвал топтавшегося за дверью денщика.
– Что прикажете, господин полковник? – открывая дверь, спросил денщик.
– Иди и скажи ординарцам, что отдаю эту бабу им.
Тогда Дашутка выхватила нож и бросилась на Щеглова, но он пнул ее носком сапога в живот. Отлетев в сторону, она упала на пол, прикусив до крови язык. Щеглов бросился, чтобы отнять у нее нож, но она успела подняться на ноги и опять пошла на него.
В ту же минуту в зимовье ворвались ординарцы. И тогда Дашутка, откинув голову назад, полоснула себя ножом по горлу. Красные круги пошли у нее в глазах. Она зашаталась, медленно повалилась на правый бок, и последнее, что промелькнуло в ее меркнущей памяти, было воспоминание о том, как скакал к ней навстречу Роман в день похорон деда, одновременно обрадованный и смущенный.
XXXIII
Вскоре после событий в Нерчинском Заводе, подчиняясь директиве обкома, партизаны Журавлева двинулись на соединение с амурцами и завязали ожесточенные бои за Сретенск, крупнейший опорный пункт атамана в Восточном Забайкалье. Одновременно полк Кузьмы Удалова был послан на юго-запад, к Маньчжурской железнодорожной ветке, по которой шло из-за границы снабжение семеновцев и действовавших в Забайкалье японских дивизий генерала Ооя.
С полком Удалова надолго ушел из родных мест и Роман Улыбин. Он так и не узнал тогда, какая судьба постигла орловскую дружину и что случилось с Дашуткой в февральскую вьюжную ночь.
Стремительным рейдом шел полк по студеным даурским степям. Партизаны, жившие предчувствием скорой победы, были настроены бодро, воевали лихо и весело. За три недели побывали они в тридцати станицах и селах. Шесть станичных дружин, два карательных отряда и батальон японской пехоты разбили они наголову ночными налетами. Нелегко было воевать при сорокаградусном морозе, на пронизывающем до костей ветру, но вера в победу воодушевляла их. Всюду население встречало их как освободителей, везде вливались в полк десятки и сотни новых бойцов. Скоро Удалов разбил свой полк на три полка по тысяче сабель в каждом и стал именовать свою часть Отдельным летучим партизанским отрядом.
В станице Улятуевской, на дневке, вызвал он к себе Романа и сказал ему:
– Знаю я тебя, Ромка, не первый день. Котелок у тебя ничего, вроде подходяще. Так что сдавай свою сотню Симону Колесникову и принимай Третий полк. Только смотри не зазнавайся, иначе разжалую в два счета.
Роман, утративший за десять месяцев непрерывных боев свою былую самонадеянность, сказал, что с полком ему не справиться.
– Как это не справишься, если я тебе приказываю? – удивился Удалов. – Я ведь знаю, что делаю. Еще как управишься-то! Об этом я могу по себе судить. Был я прежде сотенным трубачом во Втором Читинском полку, которым войсковой старшина, нынешний семеновский генерал Михайлов, командовал. А теперь я вон какой махиной управляю. И должно быть, неплохо, раз Гришка Семенов оценил мою голову в тридцать тысяч золотых. А потом, скажу тебе по секрету – командовать нашим народом нетрудно. Каждый знает, за что головой рискует.
– Все это так, – согласился Роман, – а только поискал бы ты, товарищ Удалов, человека поопытнее и постарше.
Выведенный из терпения Удалов стукнул кулаком по столу и прикрикнул:
– Хватит, поговорили! Принимай полк – и баста! В начальники штаба я тебе Елизара Матафонова определил, а Матафонов, он такой, он любого генштабиста за пояс заткнет…




