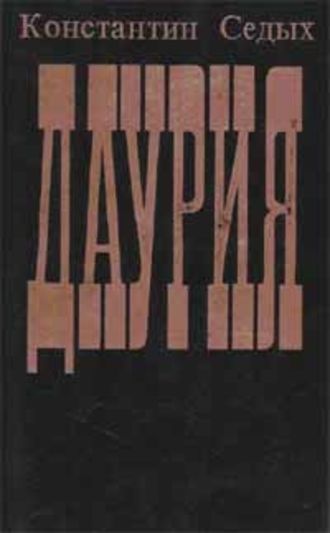 полная версия
полная версияДаурия
У Федота было давно решено, что в Мунгаловском он станет на квартиру не к кому-нибудь, а к своему бывшему хозяину, Платону Волокитину, на сестре которого, Клавдии, мечтал – жениться.
Ради такого случая Федот с вечера тщательно побрился, подстриг свой огненный чуб и вырядился в кожаную куртку и в снятые с убитого семеновского есаула голубые штаны с лампасами. «На этот раз, – думал он, – Волокитиха у меня много не поворчит. Я ее живо шелковой сделаю, по одной половице ходить заставлю. На кухне у нее жить я не стану, а в горнице поселюсь. Спать буду на той кровати, на которой у них при старом прижиме господа земские чиновники спали. Да, глядишь, и не один спать-то буду, а с молодухой под боком».
С той особой, как бы небрежной, молодцеватой посадочкой, которой умеют при случае щегольнуть лихие наездники, въехал он в волокитинскую ограду через распахнутые настежь ворота. В ограде уже стояло десятка два оседланных партизанских лошадей. Два молодых паренька с непомерно длинными драгунскими саблями на боку и с гранатами на поясах носили из амбара ведрами овес и щедро сыпали его лошадям прямо на землю. Федоту не понравилось, что на квартире, где он заведомо считал себя хозяином, бесцеремонно распоряжаются, и, чтобы придраться к чему-нибудь, прикрикнул на пареньков:
– Что вы тут, обормоты, расхозяйничались! Сорите овес направо и налево. Безобразничать-то шибко нечего. Овес, он денег стоит.
– Катись-ка ты со своими указками подальше, – огрызнулся один из пареньков, стараясь говорить басом.
– Ах ты, шибздик! – рассвирепел Федот и схватился за маузер. Паренек, ополоумев от страха, кинулся в дом. Оттуда он вышел в сопровождении пожилого, со скуластым лоснящимся лицом партизана в синей далембовой куртке.
– Ты чего, браток, шеперишься? Пошто ребятенок обижаешь? – с добродушной усмешкой спросил у Федота скуластый.
– Овес они тут почем зря сорят. Зачем же хозяев напрасно обижать?
– А хозяев-то здесь, браток, нету. Видать, с белогвардейцами удрали. Мы в доме ни одной живой души не нашли.
– Ну, тогда другое дело, – сказал Федот и почувствовал, что стало ему невыносимо скучно. Он слез с коня, привязал его к столбу с железными кольцами и пошел в дом.
На кухне уже вовсю хозяйничали партизаны. Один из них заводил в желтом медном тазу тесто для лепешек, другой растапливал плиту, а третий щипал лучину для самовара. Остальные слонялись по просторной горнице и от нечего делать разглядывали на стенах бесчисленные фотографические карточки казаков и казачек в затейливых рамках, которые в прежнее время с замечательным искусством делали каторжане в Горном Зерентуе. Один из партизан при виде Федота ткнул пальцем в одну из карточек и спросил у него:
– Сдается мне, что это ты тут, товаришок, восседаешь? Уж не родственник ли ты хозяину?
Федот подошел, взглянул на карточку и криво рассмеялся:
– Я это, не ошибся ты. Это я еще на действительной снимался в Чите. А карточка моя сюда потому попала, что я у хозяина-то шесть лет в работниках жил.
– Вот как! Наверное, сейчас поблагодарить хозяина пришел, – иронически рассмеялся партизан.
– Поблагодарил бы, да только его уже наши расхлопали, – ответил Федот и, сорвав со стены свою карточку, сунул ее в карман штанов и пошел прочь из дома. На душе у него было пусто и сиротливо.
Покинув волокитинскую усадьбу, решил он заехать к Каргиным. Но и там дома оказались только отец Каргина, глухой, пучеглазый старик, с дочерью Соломонидой, костлявой и веснушчатой старой девой. От Соломониды Федот узнал, что сам Елисей в дружине, а его семья бежала в караулы. Посидев у Каргина и напившись чаю, Федот словно неприкаянный пошел по поселку.
И тут ему снова подвернулся Никула. Никула гнал с водопоя кобылу и похожую на теленка большеухую тощую корову. Федот спросил, не знает ли Никула, где можно достать спирту или ханьшина. Никула расцвел в улыбке и ответил, что выпить можно у него, что у него с самой Пасхи хранится про запас бутылка заграничного спирта. Федот пошел к нему.
Никула подмигнул Лукерье, и она наварила целую тарелку яиц, нарезала хлеба, достала из подполья запотевшую бутылку со спиртом. При виде бутылки Федот потер нетерпеливо руки.
Угостив как следует своего гостя, Никула рискнул рассказать ему историю с сапогами и шароварами, утаив, однако, что взял он на хранение не только эти вещи, но и многое другое. Федот от души возмутился.
– А ты не запомнил на морду этого соловья-разбойника? – спросил он у Никулы. – Показал бы ты его мне, так я бы научил его, как такими делами заниматься.
– Запомнил. Я этого гуся хоть из тысячи сразу узнаю.
– Тогда ты только покажи мне его. Я у него эти сапоги вместе с ногами вырву.
Никула взглянул в окно и испуганно ахнул:
– Вот холера. Легок на помипе-го.
– Кто?
– Да тот самый, что сапоги с меня снял. Вон погляди, – показал Никула в окно. – Он уже и сапоги и штаны на себя напялил.
– Значит, сейчас сапоги снова у тебя будут. Да ты не робей, – покровительственно хлопнул Федот Никулу по плечу.
Привязав коня, приехавший ветром вломился в избу и еще с порога закричал:
– Ну, казара, где у тебя буржуйские вещи?
– В чем дело, братишка? – поднялся навстречу ему Федот. – Что ты тут повышенным тоном с мирным населением разговариваешь?
– Да ведь этот зловредный дядька у себя буржуйское добро прячет.
– Нет у него никакого буржуйского добра, и ты лучше не вяжись к нему.
– Как нет, ежели он мне сам в этом сознался! – возразил партизан.
– А я тебе русским языком говорю, что нет. Понятно?
– Ты брось мне арапа заправлять. Я не маленький, – не унимался партизан. Тогда Федот выхватил из кобуры маузер и скомандовал громовой октавой:
– А ну, садись, гад, где стоишь! – И когда партизан уселся, добавил с леденящим душу шипением: – Снимай сапоги и штаны, снимай, бандит несчастный. Они не буржуйские, а мои. Я их отдал этому человеку, когда еще на Даурский фронт пошел.
Партизан, не поднимая глаз на Федота, разулся и снял шаровары.
– Ну, а теперь вот тебе бог, вот порог, – показал Федот артистическим жестом сначала на иконы, потом на дверь. – Давай убирайся к черту. Да не вздумай сюда еще заявиться. Тогда я тебя, барандера этакого, на месте пристрелю.
– Ты мне теперь сам не попадайся в темном закоулке, – проговорил партизан.
– Что?! – заорал Федот, снова хватаясь за маузер. Партизан задом открыл дверь, прыгнул с верхней ступеньки крыльца на землю, потом в седло своего коня и унесся из ограды.
При виде постыдного бегства партизана Никула преисполнился самыми нежными чувствами к Федоту и более искренне, чем раньше, стал благодарить его. Федот в ответ только криво и загадочно улыбался, а потом сказал:
– Ты, Никула, меня лучше не благодари. Как ты, брат, хочешь, а эти Епифановы сапоги я у тебя заберу. Я у Епифана целый год в работниках жил, горб свой гнул не жалея, а он мне при расчете десяти рублей недодал, хоть я и всех-то денег тридцать рублей с него должен был получить. Да что тебе говорить. Ты и сам знаешь, какой скупердяй Епифан. Хотя и не стоят эти сапоги тех денег, я их беру. Ты Епифану так и скажи, если мы уйдем, а он вернется и станет с тебя сапоги спрашивать.
– Да ведь он меня убьет, Епиха-то. Разве ты, Федот, не знаешь его? Пожалей ты меня, оставь эти чертовы сапоги, – взмолился Никула.
Но уговорить Федота было невозможно. Епифановы сапоги остались у него.
XV
От Нерчинского Завода партизанские полки устремились на юг и на запад. Во всех пригородных селах примыкали к ним десятки новых бойцов.
В полдень Первый полк занял Горный Зерентуй, истребив в нем дружину из бывших надзирателей и чиновников Нерчинской каторги. Один из надзирателей, засев на чердаке солдатской казармы, отстреливался до последнего патрона. Когда его убили и сбросили оттуда, Роман узнал в нем того самого Сазанова, который заезжал на пашню к Улыбиным с Прокопом Носковым, разыскивая беглых каторжников.
Из Горного Зерентуя полк немедленно двинулся на поселок Михайловский. Там он был атакован Первым Забайкальским казачьим полком, понес потери и вынужден был повернуть на север, к Орловской. Теперь Роман уже не сомневался в том, что побывает дома. О смерти отца он еще не знал и думал, что тот все продолжает служить в дружине.
Был теплый майский вечер. Широкая долина Верхней Борзи, покрытая первой травой, нежно и радостно зеленела. На каждом кусте весело распевали желтогрудые клесты, цвенькали крошечные синицы, бормотали дикие голуби. У самой дороги, по которой проходили усталые, запыленные сотни, мирно паслись косяки гулевых лошадей, большие стада коров. Суетливые галки-проказницы с криком носились над лугом и садились отдыхать на спины коров. В синих озерах плавали гуси-гуменники и утки всевозможных пород. Здесь были косатые крохали и серые кряквы, нарядные мандаринки и пепельно-голубоватые чирки-свистунки. И гуси и утки не улетали при виде людей, а только спешили уплыть подальше от берега. Завистливыми глазами смотрели на них завзятые охотники из партизан, и в проходящих колоннах то и дело слышались их возбужденные голоса.
Сотня Романа шла на этот раз в арьергарде. Ординарец Романа вел за собой заводского коня, на котором с привязанными к стременам ногами сидел захваченный в Горном Зерентуе семеновский юнкер, сын начальника Нерчинской каторги полковника Ефтина.
С неживым лицом, с опухшими от слез глазами, трясся молоденький юнкер в седле, держась за обитую серебром луку. Всего неделю назад приехал он на каникулы из Читы и не гадал, не чаял, что ему уготована такая судьба. Роман, спасший юнкера от разъяренных шаманских приискателей, собиравшихся сразу же прикончить его, испытывал к нему одновременно презрение и жалость. Среди партизан было много бывших каторжан, которые на собственной шкуре испытали, что за человек был полковник Ефтин. И можно было не сомневаться, что за грехи палача-отца добьются они обвинительного приговора юнкеру в куцем мундирчике. Суровые нравы того времени не оставляли для него никаких надежд.
Юнкер, видя в Романе своего единственного заступника, несколько раз спрашивал у него в дороге:
– Скажите, товарищ, меня расстреляют, да? – и давился слезами.
– Ну вот тебе! Так сразу и расстреляют, – утешал его Роман. – За что расстреливать-то? Взяли тебя заложником. Скорее всего разменяют на какого-нибудь партизана, попавшего к семеновцам в плен.
– Это правда? Вы не обманываете меня, товарищ? – зажигались надеждой глаза юнкера.
– Конечно, правда. Все дело в том, чтобы беляки на такой размен согласились.
На короткое время юнкер оживлялся, а потом снова впадал в оцепенение и, таясь от Романа, горько-горько плакал.
Отстав от своей сотни, взглянуть на него подъехал шаманский приискатель, татарин Малай, отец которого отбыл десятилетний срок на Нерчинской каторге.
– Зачем ты его таскаешь? – сказал он Роману, свирепо вращая круглыми коричневыми глазами. – Устрой ему секим башка – и с плеч долой. Смотреть мне на него тошно. Отец его моему папашке морду бил, мучил. Не могу терпеть такой падла, – плюнул на юнкера Малай.
– Катись-ка ты, Малайка, подальше! Нечего к парню вязаться.
Малай показал юнкеру язык, обругал его по-татарски и ускакал. В сумерки южнее поселка Байкинского на передовой партизанский отряд нарвались убегавшие из Мунгаловского семьи Архипа Кустова, Платона Волокитина, Серафима Каргина с ребятишками, Дашутка с Веркой и многие другие.
Завидев скачущих им навстречу партизан, беженцы решили, что пришел их последний час. Бабы и девки начали молиться Богу, ребятишки заплакали, стали зарываться под подушки и узлы с одеждой.
Татарин Малай очутился около беженцев одним из первых. Раньше, работая в старательной артели, он часто бывал в Мунгаловском. У Кустовых, Волокитиных и Барышниковых часто покупал для артели муку и мясо и знал каждого человека в этих семьях.
– Э, мунгаловские барыни-сударыни! – скаля зубы, воскликнул он, подскакав к беженцам. – Куда это вы побежали?
– В гости поехали, а не побежали, – смело ответила ему Дашутка.
– Где же это нынче престольный праздник? Не слыхал, не знаю. Скажи лучше, что удираете, барыни-сударыни. Мы вам за это секим башка устроим.
– Зачем же ты баб, Малай, пугаешь? – прикрикнул на него один из партизан.
– Зачем пугаю? А ты знаешь, что эта за мадамы? Это мунгаловские буржуйки. От нас бегут, собачья кровь.
– А кони-то у них добрые, – сказал тогда партизан на сивой низкорослой кобыленке. – Я свою сивуху вот на этого воронка сменяю, – показал он на каргинского коренника.
– А я своего кабардинца без придачи тебе, девка, за твоего гнедка отдам, – обратился к Дашутке чубатый скуластый парень и спрыгнул с седла.
– Правильно. Раз это буржуйские кони, бери, ребята, какой кому нравится. Хозяева у них небось в белых ходят.
– Все в белых. Верно, – подтвердил Малай.
Скоро лучшие кони беженцев были выпряжены. Партизаны заседлали их и, оставив взамен своих выморенных переходами сивух и саврасок, ускакали дальше.
– Что же теперь делать будем? – спросила Серафима Дашутку. – Одни коней взяли, другие и нас порешить могут.
– Домой надо ехать. Давайте запрягаться и поедем, – сказала Дашутка.
В это время показались главные силы полка. Кузьма Удалов подскакал к беженцам, спросил:
– Это что за табор, гражданочки?
– От вас бежали по дурности, да на вас же и нарвались, – сказала Дашутка.
– А что ж от нас бегать? С бабами мы не воюем.
– Да ведь про вас всякое наговорили. Вот мы и поверили.
– Коней у вас уже подменили, что ли?
– Подменили ваши, которые передом ехали.
– И правильно сделали. В другой раз бегать не будете. Возвращайтесь-ка поживее домой, лучше будет, – посоветовал им Кузьма и уехал, сопровождаемый ординарцами.
Причитая и охая, ругая самих себя, принялись женщины запрягать оставленных им лошадей. Добротная казачья сбруя приходилась не по плечу этим богоданным одрам, хромым и костлявым. Хомуты были велики или тесны, а на подпругах седелок, чтобы застегнуть их, приходилось прокалывать новые дыры. Партизаны проезжали мимо и, догадываясь, в чем дело, беззлобно подшучивали над женщинами:
– Добегались…
– С чего это в цыганы-то записались?
– Всучили вам кляч, нечего сказать! На себе их теперь потащите.
Было уже совсем темно, когда поравнялась с беженцами сотня Романа.
– Что за люди? – окликнул он женщин, остановив коня, и услыхал в ответ обрадованный голос Дашутки:
– Роман!
Она кинулась к нему, счастливо всхлипывая и поправляя платок на голове.
– Ты откуда тут взялась?
– Ой, и не спрашивай лучше, Рома. От вас, бабы глупые, убегали. Да и я за ними увязалась… Ох, и натерпелись мы страху-то! Малайка зарубить нас хотел, да другие, спасибо им, не дали. А вот коней у нас всех подменили.
– Ну, это не беда. Других наживете, – черствым голосом сказал Роман, недовольный тем, что Дашутка оказалась среди беженцев. – И с чего это ты бегать вздумала? Денег много накопила? Бегать от нас нечего, мы не звери какие-нибудь.
– И не побежали бы, да в поселке такое содеялось, что лучше и не говорить. Вас теперь многие пуще огня боятся.
– С чего же это?
– А ты разве ничего не слыхал? Ведь твоего отца зарубили и всех низовских фронтовиков.
– Отца убили? – качнулся Роман в седле, как от удара, и на засыпанном звездами небе не увидел ни одной звезды. Судорожно глотнув воздух, спросил: – Кто убил-то?
– Каратели к нам приходили. Сергей Ильич им и выдал всех, на кого зуб имел. А на твоего отца он из-за тебя крепче всех злобился.
– Вот это обрадовала ты меня! – проговорил Роман и с ненавистью взглянул на юнкера, которого все еще возил за собою. – Раз съели отца и фронтовиков, пусть и от нас теперь пощады не ждут!..
В это время к нему подошла Серафима Каргина:
– Здравствуй, Роман Северьяныч.
– Здравствуй. Значит, съели твой муженек и Сергей Ильич моего отца? Ну, да ничего. За нами не пропадет.
Серафима затряслась от страха, не зная, что сказать ему. Но ее выручила Дашутка:
– На ее мужа ты зря несешь, Роман. Без него это все случилось. Он с дружиной на Мостовку ходил. А когда вернулся и узнал, то Сергея Ильича нагайкой избил и выручать арестованных погнался. Только не успел, опоздал. Их каратели прямо на дороге в Верничной пади порубили.
– Врешь, поди, все?
– Вот те крест, правда, – перекрестилась Дашутка и начала рассказывать, как происходило дело. Успокоенная Серафима с благодарностью глядела на нее.
– Ну, ладно, – сказал Роман Дашутке. – Собирайтесь и поезжайте домой. Дома вас никто не тронет… Васька, – позвал он ординарца, – держись с этим юнкером подальше от меня, а то я ему очень просто могу голову смахнуть. Сделается он «его благородием» и станет собакой почище своего отца…
Всю ночь не выходили из головы его мысли об отце. Обидно, глупо погиб бедняга. И навсегда осталось теперь загадкой, кем был отец для него – врагом или другом. Все партизаны говорили про него, что пошел он, конечно, в дружину не по своей охоте. Но сам Роман сомневался в этом. Зимой отец уговаривал его не возвращаться в лесную коммуну, а идти на поклон к атаману. Судя обо всем по настроениям своих посёльщиков, верил тогда отец, что народ стоит за Семенова, что Роман ошибся, связав свою жизнь с большевиками. Может быть, с такими же настроениями пришел он и в дружину. Может быть, именно потому и не сдался он в плен партизанам под Мостовкой. И если, было это так, то вдвойне ужасной была гибель отца. Не было и не могло быть тогда у него той опоры в душе, с которой смело умирают в семеновских застенках большевики и люди, горячо сочувствующие им.
XVI
Никифор и Арсений Чепаловы послушались отца и решили отстать от дружины. Выждав, когда Каргин с дружинниками оставили поселок, они запрягли в тарантас и бричку две пары лучших своих лошадей и пустились в бега. Сергей Ильич и Арсений ехали в тарантасе, а Никифор с двенадцатилетним сыном Пашкой в бричке.
Отъехав верст десять на юг от Мунгаловского, они услыхали впереди орудийную стрельбу. Ехать дальше было явно рискованно. В полной растерянности остановились они на дороге, не зная, что предпринять.
– Худо дело, – сказал Сергей Ильич. – И дернул же нас черт замешкаться. Прямо ума не приложу, куда теперь путь держать.
– А давайте махнем в Синичиху, – предложил Никифор.
Сергей Ильич подумал и согласился.
Синичихой называлась узкая горная падь к юго-востоку от Мунгаловского. Со всех сторон Синичиха была сдавлена крутыми, красными от залежей охры сопками. Непрерывной лентой тянулся в ней черный дремучий колок. Колок был заболочен бьющими во многих местах из сопок ключами… В самой вершине, где сбегались в падь глубокие, как овраги, распадки, у колка, стояла заимка мунгаловских богачей Барышниковых.
Перевалив через высокий Услонский хребет, Чепаловы в сумерки приехали на заимку. На заимке ухаживали за скотом барышниковские работники – старик Самуил Кобылкин и подросток Гришка Тяпкин.
Сергей Ильич первым делом отозвал в сторону Самуила и велел ему наказать Гришке держать язык за зубами, если на заимку приедут красные.
– Мы на тот случай в колке спрячемся. А вы смотрите сдуру не обмолвитесь, а не то плохо тебе будет, – пригрозил он старику, вытащив из-за пазухи семизарядный «смит-вессон».
Никифор с Арсением распрягли лошадей и отвели их подальше в колок, где привязали к деревьям и дали им сена. Потом закатили в колок бричку с тарантасом. Тем временем Сергей Ильич с Самуилом изготовили на ужин котел галушек.
Поужинав, Никифор с Арсением ушли ночевать в колок, а Сергей Ильич и Пашка остались в зимовье с работниками. Скоро работники и Пашка уснули, но Сергей Ильич решил не спать до утра. То и дело выходил он из зимовья послушать, не подъезжает ли кто к заимке.
Уже брезжил серый утренний свет, когда услыхал он приближавшийся от устья конский топот. В диком страхе метнулся он в зимовье, разбудил Самуила и строго-настрого наказал говорить всем, что, кроме них с Гришкой, никого из посторонних нет на заимке. За это пообещал он Самуилу фунт байхового чая и новые ичиги.
– А внучонка-то разве тут оставляешь? – спросил перепуганный не менее его Самуил.
– Пусть спит. Скажешь, что это тоже работник.
– Да ведь он в сапогах…
– Сними ты их с него, ради Бога… Сделай все как полагается, а уж я тебя отблагодарю. – И Сергей Ильич выбежал из зимовья.
Никифора и Арсения нашел он у коней. Они надевали трясущимися руками на конские морды брезентовые торбы с овсом, чтобы кони не вздумали ржать.
– Ну, молитесь Богу, чтобы пронесло, – сказал он сыновьям и велел прятаться.
В поисках убежища понадежней забились они в такую чащу, где было темно, как в сумерки, в самый ясный день. Сергей Ильич нашел огромный ледяной бугор, полый внутри.
Этой зимой ключевая вода вспучила мерзлую наледь, разорвала ее с пушечным гулом и разлилась по колку. Теперь же подмытый с одного края бугор обломился. Обломившийся лед растаял и открыл вход в длинную низкую щель. С потолка ее свисали ледяные сосульки, и вся она была загромождена кочками, пнями и стволами деревьев. От этого было в ней постоянно темно.
Сергей Ильич ползком забрался в щель как можно дальше от входа и затаился, привалившись спиной к одному из пеньков.
* * *Шестая сотня Второго партизанского полка шла из деревни Ивановки на Мунгаловский не по тракту, а напрямик, через Хребты. За проводников в ней были Семен Забережный и присоединившийся к партизанам Прокоп Носков, хорошо знавшие местность во всей округе.
На рассвете эта сотня и подошла к барышниковской заимке. Увидев во дворах скот, партизаны поняли, что на заимке живут.
– Надо тут пошукать, – сказал Семен Прокопу. – Может быть, тут кто-нибудь из Барышниковых обретается. Хорошо бы сцапать хоть одного из них.
Попросив у командира сотни разрешения заглянуть на заимку, Семен с Прокопом подъехали к зимовью. Сотня же спешилась на перекур возле прясел гумна.
– Эй, кто есть живой в зимовье – выходи! – крикнул Семен, не слезая с коня, держа наизготовку японский карабин.
Тотчас же в дверях показался трясущийся от страха Самуил Кобылкин. Разглядев Семена и Прокопа, он, обрадованный, перекрестился:
– Ну, спасибо Создателю…
– За что ты Бога благодаришь? – усмехнулся Семен.
– Да ведь как же не благодарить-то. Про красных говорили, что у них сплошь все татары и китаезы.
– Ты что, один здесь живешь?
– Нет, Гришка Тяпкин со мной.
– А Барышниковых тут нету?
– Нету, нету, они ведь в дружине ходят.
Семен слез с коня, вошел в зимовье, заглянул под нары и за печку. Гришка и Чепалов Пашка мирно похрапывали на нарах, накрытые одной дохой.
– А это кто еще с Гришкой спит?
– Это… – запнулся старик. – Это, паря, младший сынок Степана Барышникова.
– Что же ты тогда говорил, что, кроме вас с Гришкой, никого нет?
– Да забыл я от растерянности.
– Ну, ну… – протянул Семен и вышел из зимовья. У него родилось подозрение, что раз тут сынишка Степана, то, возможно, и сам Степан скрывается здесь.
– Ну, скоро вы? – окликнул его командир сотни. – Надо двигаться дальше.
– Обожди минутку. Тут, паря, белым духом тянет. – И Семен направился во дворы. Потыкав шашкой в омет сена и в кучи навоза, он взглянул под поветь, в телячью стайку и, разочарованный, вернулся назад. Было уже достаточно светло, и его внимание сразу привлекла лежавшая на земле крашенная киноварью и золотом конская дуга с медным витым кольцом. Он поднял ее и увидел на концах ее золотые буквы «С.Ч.».
– Знакомая дуга-то. Откуда она здесь взялась? – спросил он зачужавшим голосом Самуила, у которого мелко-мелко стали подрагивать колени и побелело лицо.
Семен схватился за шашку, пошел на него:
– Ты что мне голову морочишь, холуй барышииковский? Без головы захотел остаться? Давай лучше подобру говори, кто здесь из Чепаловых прячется.
– Из Чепаловых? – изумился Прокоп и спрыгнул с седла.
Тогда Самуил с решимостью отчаяния принялся громко шептать Семену:
– Все тут. Все до одного, паря… В колке прячутся. Только не говори ты, ради Христа, что я об этом сказал…
– Ладно, не трясись, черная немочь. Жить теперь Чепаловым осталось столько, сколько мы искать их будем, – сказал Семен, и они побежали с Прокопом к командиру сотни.
Через пять минут вся сотня начала прочесывать колок, а по закрайкам его на всем протяжении встали конные часовые. Они прислушивались к малейшему шороху в чаще, чтобы Чепаловы не выскользнули из колка в боковые распадки.
– Ну, началась облава на волка и его отродье, – жестоко сказал Семен, с карабином наперевес вступая в чащу.
Сначала обнаружили тарантас и бричку, потом лошадей. Немного спустя раздался в колке чей-то яростный возглас и эхом укатился в сопки:




