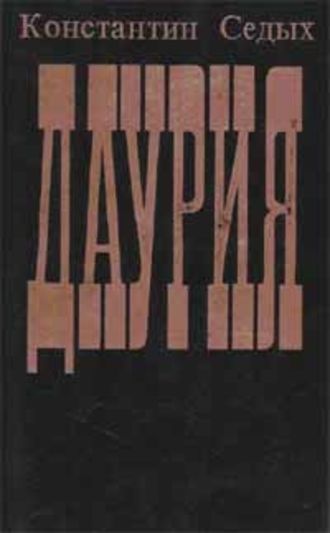 полная версия
полная версияДаурия
– А я думал… не повидаю, помру… Спасибо. Мой наказ тебе – верой и правдой служи… народу… земле родной, – и совершенно обессиленный откинулся навзничь. Лицо его стало синеть, дыхание становилось все более беспорядочным. Роман думал, что это уже конец. Но Андрей Григорьевич еще отдышался и поманил его к себе слабым движением костлявой и желтой руки. Он хотел ему сказать что-то еще, но Роман заметил это только по движению его губ, слов уже нельзя было разобрать. Тогда он опять поцеловал деда в уже холодеющий лоб. И вдруг услышал, что дыхание его прекратилось. Напрасно ждал он нового вздоха, его не последовало. И тогда с полными слез глазами вышел из горницы. Оставаться он дольше не мог, на улице начинало светать и утренняя зарница блестела над белыми сопками на востоке.
– Уезжай, Рома, уезжай, Бог с тобой. Как-нибудь без тебя похороним дедушку, – торопила его мать, а отец уже накладывал в ковш горячих углей из загнетки и сыпал в них ладан, чтобы окадить оставившего мир Андрея Григорьевича.
С тяжелым сердцем уехал Роман из дому в морозное февральское утро. Со смертью деда оборвалась в его сердце еще одна нить, связывавшая его с Мунгаловским, и теперь он больше, чем когда-либо, был готов на новые муки и усилия ради того дела, за которое погибли Тимофей, матрос Усков и многие, многие сотни других.
На второй день к вечеру он был уже снова в своей лесной коммуне, население которой значительно увеличилось. Из Курунзулая переселились в нее призывных возрастов казаки, не хотевшие служить Семенову.
XXVIII
На масленой в Мунгаловский приехал новый станичный атаман Степан Шароглазов. Остановился он у Сергея Ильича и вечером вызвал к себе Каргина. Каргин уже знал, что предстоит какое-то неприятное объяснение, раз Шароглазов не счел возможным остановиться у него. Поэтому на свидание отправился в самом дурном настроении.
Был морозный ясный вечер. Чисто выметенные к празднику улицы, нежно розовеющие в сумеречном свете, были полны катающихся ребятишек, разнаряженных парней и девок. Парни были в белых, черных и сизых папахах, девки – в пуховых цветных полушалках и шалях. В одном месте плясали они под гармошку лихого «камаринского», в другом – водили во всю улицу хоровод. Всем было весело, хорошо. И Каргин, шагая по широкой улице, жалел, что время праздничных утех для него навсегда миновало. Завидев его, парни и девки умолкали и расступались, давая ему дорогу.
У Чепаловых только что зажгли в столовой большую висячую лампу. Проходя по ограде мимо еще не закрытых окон, он увидел в столовой Шароглазова и Сергея Ильича с сыновьями. Они сидели вокруг кипящего самовара, Сергей Ильич что-то рассказывал Шароглазову, и выражение его лица было необыкновенно злым. Шароглазов, слушая его, прихлебывал чай из стакана, сдержанно посмеивался и покручивал левой рукой свои пышные усы. «На меня наговаривает, не иначе», – решил Каргин и расстроился пуще прежнего.
Войдя в дом, он разделся никем не замеченный, потер рука об руку и с решительным видом вошел в столовую. По моментально наступившему неловкому молчанию понял, что разговор шел именно о нем. Молчание прервал злорадным баском Шароглазов:
– Ну вот, он и сам пожаловал, – и сразу спросил: – Что же это ты творишь тут, Елисей?
– Не знаю, о чем речь. Объясни.
– Какого черта Ромку Улыбина поймать не мог?
– Ромку? – усмехнулся Каргин. – Оттого, что он оказался умнее и проворнее, чем мы думали.
– А вот Сергей Ильич говорит, что его по твоей милости не поймали. Наобум ты пер.
– Не спорю. Оно и в самом деле было так. Да только я на тех понадеялся, которые у крыльца ворон ловить вздумали.
– Что на других кивать! – сердитой глухой скороговоркой перебил его Сергей Ильич. – Против своей воли шел ты его ловить и ловил от этого спустя рукава. Вот что я тебе прямо в глаза скажу.
– Вон как! – вспыхнув, сказал Каргин. – Раз так, значит, надо меня из атаманов ко всем чертям вытурить.
– Вытурить не вытурить, – а вежливо попросить, чтобы сам ушел с этой должности, – самодовольно рассмеялся Шароглазов и сразу же перешел на сухой служебный тон: – Мне, брат, насчет тебя в отделе прямо сказали: снять и даже расследовать все твое поведение в этом деле. Но расследовать я ничего не собираюсь и даже, больше того, срамить тебя перед обществом напрасно не хочу. Поэтому давай созывай сходку и заявляй, что по состоянию своего здоровья или, скажем, хозяйства исполнять атаманскую должность больше не можешь.
«Хорошо, что ты еще не знаешь, как я баргутов рубил, тогда бы, пожалуй, по-другому заговорил», – подумал Каргин, а сам сказал:
– С удовольствием это сделаю. В атаманстве мне немного радости. Хоть сегодня же приму свою отставку.
– Да, да… Именно сегодня. В станице у меня уйма всяких дел, к утру я обязательно должен быть там, а мне хочется побывать на вашей сходке, чтобы поддержать твое прошение.
– Ты что же, думаешь, что без тебя меня могут не сменить?
– Народ у вас упрямый. Так что очень свободно твое прошение могут без внимания оставить. А это, брат, никак невозможно, раз категорически приказано снять тебя.
– Вот, значит, какие теперь порядки-то! Выходит, общество не может выбрать того, кто ему по душе. Что-то не по-казачьи получается. Даже при царе этого не было.
– Царь-то нас всех своими верными слугами считал. А теперь дело другое. На всех казаков полагаться нельзя. Сволочей и среди нас много оказалось, а их в железной узде держать надо. Иначе все прахом пойдет. Будет у вас верховодить голь перекатная и наведет такое братство и равенство, что тошно нам станет. Ты, вместо того чтобы подковырками заниматься, об этом подумай.
– Правильно, Степан Павлович, – поддержал Шароглазова Сергей Ильич. – Чтобы не повторился восемнадцатый год, надо многих к рукам прибрать. А Елисей хочет для всех быть добрым, на всех угодить старается.
– Делал так, как подсказывала мне моя совесть. Не хотел я лишних врагов плодить, без нужды озлоблять тех, кто с повинной к нам пришел. Но раз вы считаете, что надо рубить сплеча, – рубите, только этим новую власть укрепить нам трудно.
– Да? – иронически прищурив глаза, сказал Шароглазов. – Если бы я, брат, не знал тебя, то подумал бы, что тебя первым надо послать туда, куда нынче большевиков посылали.
Каргин криво усмехнулся.
– Спасибо за откровенность, – а про себя подумал, что спорить с такими людьми не только бесполезно, но и опасно. Лучше было молчать. Помедлив, он поднялся со стула и сказал, что пойдет собирать народ на сходку.
На сходке новым поселковым атаманом выбрали бывшего надзирателя Прокопа Носкова, который одинаково уживался с богатыми и бедными.
Отстраненный от общественных дел, Каргин с рвением принялся за свое хозяйство. Сразу же после масленицы уехал он на полмесяца с братом в тайгу на заготовку дров. Считал он себя незаслуженно обиженным и часто, мысленно обращаясь к Шароглазову и Сергею Ильичу, думал: «Посмотрим, что вы, голубчики, натворите и как это потом расхлебывать будете».
Скоро на заимку брату Каргина Митьке доставили предписание явиться в станицу на медицинское освидетельствование. Врачи признали его годным, и он вместе с другими молодыми казаками был направлен в Читу.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
I
Весна подступила к тайге не спеша. До самого марта глубокий снег в ней был хрупким и рассыпчатым. Изузоренный следами рябчиков и глухарей, горностаев и колонков, отливал он холодной голубизной в тени, бриллиантами горел на солнце. Но с каждым днем ясней и выше становилось мартовское небо, и солнце все пристальней и дольше разглядывало тайгу, словно примеряясь, откуда приняться за дело. После буйных ветров и метелей деревья стояли пасмурные и голые, с ветвями, покрытыми коркой льда. В самый тихий безоблачный полдень до каждого дерева дотронулось с доброй улыбкой солнце, и оттаяли, распрямились ветви, обрадованно потянулись навстречу его лучам. По всем солнцепекам запахло смолистой горечью, винным духом багульника и подталым снежком.
С приближением весны сильней затосковали в своих землянках курунзулайские лесовики по белому свету, по деятельной жизни. С раннего утра свободные от нарядов люди спешили разбрестись по тайге. Одни шли охотиться, другие собирать на таежных болотах клюкву или просто посмотреть с какой-нибудь горной вершины на зазывно синеющие дали, увидеть с волнением дымок над далеким людским жильем, уловить в дующем с юга ветре будоражливые запахи весны. И когда подходила пора возвращаться в сумрачную теснину к душным и низким землянкам, где за долгую зиму все так надоело, ноги через силу несли их туда.
Роман, давно перечитавший по нескольку раз имевшийся у Бородищева десяток книг, целыми днями пропадал в тайге. С ружьем за плечами уходил он по тропам за перевалы, неутомимо разыскивая места зимовок рябчиков и тетеревов. Как добычливый охотник, всегда имел он в своем распоряжении одну из двух бывших в коммуне двустволок. Скупой для других, Семен Забережный, ведавший запасами дроби и пороха, никогда не отказывал в них Роману.
В первых числах марта Варлам Бородищев отправился для очередной разведки в Курунзулай и другие окрестные села, где имелись у лесовиков верные друзья. Роман вызвался проводить его до первого перевала и поздно вечером вернулся назад, подстрелив по дороге пару тетеревов. Семен немедленно выпотрошил тетеревов и передал их дежурившему на кухне Федоту с приказом организовать на ужин жаркое.
– Только жарить жарь, а пробовать не смей, – зная аппетит и характер Федота, предупредил он его.
– Тогда давай сучи нитки и зашивай мне рот, – рассмеялся Федот. – Иначе за сохранность этих птичек не ручаюсь.
После ужина все лесовики, за исключением часовых и дневального, собрались в штабной землянке. Пользуясь отсутствием Бородищева, который терпеть не мог пустого времяпрепровождения и частр угощал их собственными докладами на всевозможные темы и громкими читками Романа, лесовики затеяли картежную игру. Играли в «молчанку», в которой малейшая ошибка против правил игры наказывалась битьем картами по носу. Всякий раз причин для взаимного битья, и действительных и ловко придуманных, находилось столько, что редко кому удавалось выходить из игры небитым.
Игру прекратили далеко за полночь. Выйдя из накуренной землянки, Роман ахнул: нерушимая тишина стояла в тайге, и волнующе пахло в сырой теснине горной таволожкой, сладковатой древесной гнилью.
…В землянке, где жили мунгаловцы, было жарко натоплено. Роман разделся, улегся рядом с Семеном на скрипучие нары и долго не мог заснуть в невыносимой духоте. Только под утро, когда в землянке повыстыло, забылся он крепким сном. Разбудил его веселый голос Бородищева, распахнувшего настежь низенькую набухшую дверь.
– Эй, засони! И как это вам не стыдно дрыхнуть до такой поры? На улице солнце обед показывает, а у вас и завтраком не пахнет, – зычно басил Бородищев, стоя в дверях.
Удивленные его неожиданным возвращением, обитатели землянки все разом поднялись и стали одеваться. Все поняли, что что-то случилось, раз он прикатил обратно. Федот, запустив пятерню в свои волосы и позевывая, спросил его:
– Что так скоро?
Бородищев бросил на нары мешок с хлебом и стал развязывать воротник своей козлиной дохи, не торопясь с ответом.
– Да не томи ты душу, Варлам Макарьевич!
– Подожди, узнаешь. Хорошие дела начинаются. Теперь по двадцать часов в сутки спать некогда будет. На дворе весна, и нам пора из наших берлог на свет божий вылезать… В мешке тут у меня пшеничные калачи. Давайте разговляйтесь поскорее да приходите в штаб. Большой разговор у нас, ребята, будет, шибко большой. – И так же шумно, как появился, Бородищев покинул землянку.
Следом за ним вышел на двор и Роман. Он сразу ослеп от яркого солнечного света, от снежного блеска. А когда огляделся, увидел: снег на скате землянки, обращенном к солнцу, весь растаял. Крыша влажно блестела и дымилась. Роман с удовольствием потянул в себя воздух и снова, как ночью, уловил запахи пробуждающейся природы. «Весна, как есть весна!» – подумал он с радостью и стал умываться мокрым снегом. Из дверей землянки высунулась голова Федота.
– На, лови! – запустил в него Роман комком снега. Федот не успел отвернуться, и комок угодил ему прямо в лицо. С медвежьим рыком вылетел тогда Федот из землянки, схватил Романа в охапку, и они стали бороться. Вывалявшись в снегу, вернулись в землянку запыхавшиеся, возбужденные и принялись уплетать бородищевские калачи. Семен, посмеиваясь, наблюдал, как работали они челюстями, и на всякий случай отодвинул подальше в сторону свой пай калачей.
Когда все собрались в штабную землянку и расселись по нарам и чуркам, заменявшим стулья, Бородищев выколотил о край стола свою потухшую трубку, спрятал ее в кисет и сказал:
– Ну, дорогие мои товарищи, пожили мы на волчьем положении, а теперь пора и честь знать. За перевалами – совсем весна. По солнцепекам уже палы пускают. Надо и нам пустить на все Забайкалье вешний красный пал, да такой, чтобы все атаманы и генералы не могли его потушить. – И все находившиеся в землянке вдруг увидели, что Бородищев вовсе не такой нудный оратор, как казался им прежде.
– Дело говоришь, – пробурчал Федот.
Бородищев продолжал:
– Привез я хорошие вести. Наши соседи, алтагачанские лесовики, даром времени не теряли. Они в Курунзулае сотню семеновских казаков наполовину разагитировали. Ждут нас казачки, чтобы перейти на нашу сторону. Нужно нам это дело так обделать, чтобы вся сотня в наших руках была. А как управимся с ней, далеко разнесется о нас молва. Все, кто скрывается в лесах и сопках, потянутся к нам. Всем надоело даром небо коптить, все в бой рвутся.
Бородищев вытащил из кисета трубку, набил ее нестерпимо вонючим своим самосадом и хотел было раскурить, но раздумал и положил на стол.
– Начинаем мы, товарищи, с малого. Нас двадцать семь человек, онон-борзинцев восемнадцать. Но этого бояться нам нечего. Маленький камушек вызывает другой раз такую лавину в сопках, которая столетние деревья, как щепки, ломает, реки запруживает. Положение сейчас именно такое, что нашим камушком мы вызовем лавину народного восстания. Теперь не восемнадцатый год. Теперь люди на собственной шкуре испытали, кто такой атаман Семенов. Его карательные отряды нагайками и шомполами многих научили уму-разуму. Мало сейчас таких найдется, которые скажут – моя хата с краю… Сегодня к вечеру мы выступаем. Только прежде чем начнем мы это великое дело, нужно, чтобы каждый из нас принес святую и нерушимую присягу на верность революции, на верность простому народу. Согласны со мной?
– Согласны!.. Давай приводи нас к присяге!.. – закричали воодушевленные его словами лесовики.
Бородищев достал тогда из нагрудного кармана рубахи вчетверо сложенный лист бумаги с текстом им самим сочиненной присяги, над которым он вдоволь покорпел в глухие зимние ночи.
– Встать! – скомандовал он резко и властно. Оглядев дружно поднявшихся на ноги людей, сказал: – Все повторяйте за мной, – и стал читать присягу.
Голос Бородищева становился все сильней и звонче. Торжественная приподнятость и волнение его передались всем лесовикам. У Романа перехватило горло и холодок восторга пробегал по спине, когда он повторял обжигающие душу слова:
– «До последнего дыхания я буду предан революции. Буду честным и дисциплинированным, готовым на смерть и подвиг борцом за власть Советов. Если нарушу я эту мою присягу, пусть будут моим уделом вечное презрение народа и бесславная смерть».
Закончив чтение, Бородищев поздравил лесовиков с принятием присяги и приказал готовиться к походу.
На закате лесовики навсегда распрощались со своим таежным гнездовьем. Вытянувшись в цепочку, двинулись они к синеющему на горизонте перевалу. Тяжелые испытания, бесчисленные бои и походы ждали их впереди.
II
Было раннее мартовское утро. Широкую, уходящую на юго-запад долину окутывал морозный туман. Над плоскими вершинами хмурых сопок, скинувших свой зимний наряд, тлела узенькая полоска зари. За прибрежными мелкорослыми тальниками еще крепко спал Курунзулай, большой и неуютный казачий поселок.
У раскрытых на зиму ворот поскотины, в укрытой от ветра лощине, едва приметно дымился костер. У костра сидели и лежали казаки сторожевой заставы. Было их семь человек. Скуластый, с узенькими и косо поставленными голубыми глазами урядник, бывший над ними за старшего, надвинул на самые брови заячью папаху, покуривал серебряную монгольскую ганзу и сосредоточенно смотрел на огонь костра. Изредка он позевывал и потуже запахивал полы длинного полушубка.
Недалеко от костра, на пригорке, с которого давно сдуло весь снег, прохаживался часовой в тяжелом овчинном тулупе, с винтовкой на ремне. Он рассеянно оглядывал мутную утреннюю даль и бурую полоску тракта, уходившего на запад, к Онон-Борзинской станице. Ему смертельно хотелось спать, и он проклинал свою службу и все на свете. Он не видел, как из ближайших кустов ползли к нему три человека в белых халатах. Подобравшись к нему почти вплотную, они притаились в канаве, забитой ноздреватым и почерневшим снегом. Когда часовой, не дойдя до них двух-трех шагов, повернул обратно, один из них вскочил и бросился на него. Одной рукой схватил он часового за шею, другой, одетой в невыносимо воняющую кислятиной овчинную рукавицу, зажал ему рот и повалил на землю. В это время двое других с поднятыми в руках гранатами подбежали к костру, и свирепый Федотов бас оглушил казаков:
– Лапы вверх, если жить хотите!
В первую минуту казакам показалось, что это кто-то свой решил подшутить над ними. Но, увидев свирепо искаженное лицо Федота, они побелели и стали подымать трясущиеся руки. Двое попытались встать на ноги, но Федот пригрозил:
– Сидеть и не брыкаться!.. Ромка! Забирай у них винтовки!..
Роман сунул гранату за пазуху и живо отобрал у казаков винтовки. Федот повернулся к кустам, весело крикнул:
– Готово. Давай сюда!
Решительные и веселые от первой удачи сбежались из кустов остальные повстанцы. С казаков они сняли патронташи, разобрали их винтовки. Потом Бородищев сказал пленникам:
– Убивать мы вас не собираемся. Насчет этого можете не беспокоиться. Пока будем разоружать остальных, вам придется посидеть здесь. Ну, а потом, кто пожелает в наш отряд – милости просим. Остальных отпустим на все четыре стороны.
Оставив с казаками двух бойцов, повстанцы развернулись цепью и двинулись в Курунзулай. На домах, в которых стояли семеновцы, были намалеваны кем-то из местных жителей белые кресты. Меченые дома тихо окружали и без всякого шума обезоруживали тех из казаков, которые не были сагитированы заранее.
В купеческий дом, где жили офицеры сотни – подъесаул и два хорунжих, – вошли Бородищев, Роман, Федот и трое других повстанцев. В кухне навстречу им поднялся из-за стола белый от страха хозяин, благообразный, высокого роста старик. Он догадался, что за гости пожаловали к нему.
– Здравствуйте, товарищи! – сказал он масленым голосом, протягивая им для рукопожатия трясущуюся руку с кольцом на указательном пальце. Отстранив его руку наганом, Бородищев спросил свистящим шепотом:
– Офицеры спят?
– Спят. Вчера поздно легли.
– Ладно. Сиди и помалкивай, если жить хочешь. – И Бородищев открыл половинку филенчатой двери, ведущей в купеческие комнаты. Роман и Федот первыми проскользнули в полутемный шестиоконный зал с цветами на подоконниках. На них пахнуло винным перегаром и застоявшимся табачным дымом. Следом за ними вошел с зажженной лампой в руках Бородищев. Один офицер спал на диване, двое других – на широкой купеческой кровати. На круглом столе посередине зала лежали офицерские шашки и револьверы в желтых кобурах.
Роман метнулся к столу, завладел оружием. Повстанцы наставили на офицеров винтовки. Бородищев подмигнул Федоту. Федот закатил глаза и нараспев затянул:
– Га-аспада офицеры! Парадом командую я. Пра-а-шу встать!
Спавшие на кровати моментально проснулись и сели. Не понимая, в чем дело, один из них, с выбритой наголо круглой головой, свирепо спросил:
– Это еще что за шутки? Вон отсюда!..
Но, разглядев наставленные в упор винтовки, начал медленно подымать длиннопалые руки. Второй, чубатый и горбоносый, заикаясь судорожно застегивая на себе нижнюю рубашку сказал:
– С-сдаюсь, господа.
Третьего, спавшего ничком, пришлось основательно встряхнуть, чтобы заставить проснуться. От испуга на него навалилась безудержная икота. Федот прекратил ее тем, что поднес ему хорошую затрещину. Но этим навлек на себя гнев Бородищева, который так свирепо посмотрел на Федота, что тот сразу стал меньше ростом. Он знал, что Бородищев не любит и не поощряет мордобоя.
Через час в Курунзулае весело топились печи. Во многих домах хозяйки пекли и жарили угощения для повстанцев, а хозяева седлали коней, чистили берданки, точили шашки. Восемьдесят шесть человек бедноты и середняков решили идти партизанить, завоевывать себе Советскую власть. Вступить в партизанский отряд решили и взятые в плен казаки.
Офицеров решено было судить. Хитрый Бородищев поручил судить их казакам.
– Судите, братцы, своих офицеров сами. Если оправдаете – пусть катятся куда хотят, если нет – исполним ваш приговор.
Суд состоялся в здании местной школы при огромном стечении народа. За каждым из офицеров нашлось столько грехов, что обвинители единодушно вынесли им суровый приговор. За порки и расстрелы, за расправы над семьями ушедших в леса, за слезы и горе многих людей были приговорены офицеры к расстрелу.
Вечером их вывели в кусты на берег речки и расстреляли. А ночью партизанский отряд, разбитый на две сотни, двинулся на Александровский Завод. Там повстанцы надеялись привлечь на свою сторону сотни новых бойцов, раздобыть оружие и боеприпасы.
Выбранный командиром взвода, как и Семен с Федотом, Роман шел до самого Александровского Завода в головном дозоре. Несмотря на вторую бессонную ночь, чувствовал он себя бодрым и сильным как никогда. Трудна была его боевая дорога, но вела она к великой и ясной цели. Мечтая о будущем, часто вспоминал он в ту ночь дорогие для него имена Василия Андреевича и Тимофея Косых.
III
С осени старший сын Каргина учился в орловском двухклассном училище. На воскресенье его привозили домой. В одну из апрельских суббот за сыном поехал сам Каргин.
В полях была уже настоящая весна. Редкие островки талого снега лежали только в кустах и оврагах. На отлогом склоне сопки, за поселковой поскотиной, кадил белым дымом вешний пал. Теплый порывистый ветер раздувал огонь, клубил черные хлопья золы, перекатывал с места на место горящий коровий помет. В ясном переливчатом небе безумолчно радовались жаворонки. От пения жаворонков, от солнца и ветра почувствовал себя Каргин необыкновенно хорошо. Жизнь, похоже, налаживалась. О большевиках ничего не было слышно.
В самом отличном настроении прикатил он в Орловскую. У станичного правления увидел большую толпу казаков. С серьезными вытянутыми лицами сгрудились они у крыльца и глядели на север, к чему-то напряженно прислушиваясь. На крыльце стоял, облокотившись на перила, большеротый и веснушчатый станичный казначей Тарас Лежанкин. Каргин слез с телеги, раскланялся с казаками и спросил:
– Что это у вас за сборище?
– А ты разве ничего не слышишь? – вяло и грустно улыбнулся Лежанкин.
На севере, куда смотрела толпа, дымились над зубчатыми хребтами студеные тучи. За тучами время от времени глухо погромыхивало, словно необычно ранняя надвигалась оттуда гроза. Каргин прислушался, удивленно повел широкими бровями. Наблюдавший за ним Лежанкин спросил:
– Что, не нравится такой гром?
– Ты лучше скажи, откуда он взялся. В правлении ничего не известно?
Лежанкин отрицательно помотал белесой головой. Каргин стал привязывать коня к палисаднику. Из толпы к нему протискался знакомый батареец, поздоровался и начал сыпать торопливым говорком:
– Трехдюймовки работают, Елисей Петрович. Это я сразу определил. Беглым огнем наворачивают. Не шуточная, видать, сражения идет.
Поговорив с батарейцем, Каргин поднялся на крыльцо к Лежанкину. Загадочная орудийная пальба всполошила его. Видно, опять нагрянула война. Но с кем? И он снова спросил Лежанкина:
– Неужели вы ничего не знаете?
Лежанкин только сокрушенно пожал плечами и посоветовал зайти к атаману.
Шароглазов, которого Каргин недолюбливал за непомерное честолюбие и самонадеянность, был у себя в кабинете. Он навалился всей грудью на стол и строчил какую-то бумажку. Увидев Каргина, он откинулся на спинку кресла и, раздувая лисьи хвосты своих усов, громко и покровительственно, как всегда, прокричал:
– Проходи, Елисей, проходи! Рад тебя видеть. Что-то ты давненько ко мне не показывался. Сердишься, что ли?
«И чего человек орет. Я, кажется, не оглох еще», – с раздражением подумал Каргин, присаживаясь на обитый коричневой кожей диван. Шароглазов достал из нагрудного кармана перламутровый гребешок в замшевом чехольчике, расчесал усы и только тогда спросил:




