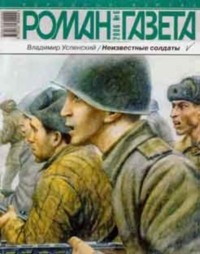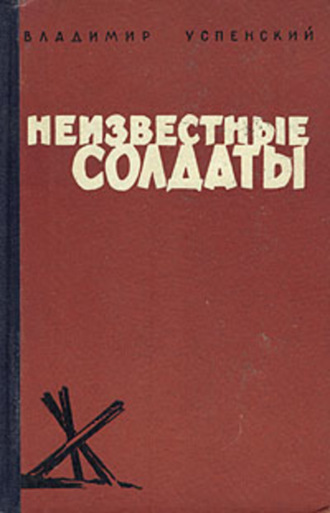 полная версия
полная версияНеизвестные солдаты, кн.1, 2
– Чего там не видел? Я пока еще в Красной Армии зарегистрирован.
Брагин, нагнув голову, костяшками пальцев нервно барабанил по столу.
– Иван, остался бы ты, – попросила хозяйка. – В лесу сторожку знаю, ни одна собака туда не заглянет.
– Останься, – поддержал ее Егор Дорофеевич. – Я окрепну и в партизаны подадимся. Леса тут большие, болота. Летом просторно будет.
– Нет. И толковать про это больше не надо. Присягу я давал, и по той присяге в ответе, потому как никто с меня ее не снимал. А вот выпить перед дальней дорогой – это было бы в самый раз.
Хозяйка поставила на стол обливной кувшин самогона и миску квашеной капусты. Мужчинам налила в стаканы, себе – в чашку с отбитой ручкой. Иван понюхал, крякнул, почесал подбородок.
– Крепкий первач – по запаху чую. Ну, Дорофеич! Выпьем, значит, за нас бедных и за всех военных!
– Чокнемся, Ваня, – потянулся к нему Брагин. – Дай бог – не последнюю. И спасибо тебе за все доброе.
* * *На окраине небольшого городка, одного из районных центров Смоленщины, стояла до войны стрелковая часть. Для нее выстроены были кирпичные казармы, конюшни, несколько складских помещений. Чуть поодаль жили в стандартных домиках семьи командного состава. Все эти строения, вместе с плацем и прилегающим к нему полем, немцы обнесли колючей проволокой в несколько рядов. Через каждые двести метров поставили вышки с пулеметами. От вышки к вышке попарно вышагивали часовые.
В этом лагере для военнопленных Пашка Ракохруст находился с августа. Сколько тут было людей, никто точно не знал. Немцы брали на учет только командиров. Выявляли и расстреливали политработников. А рядовыми никто не интересовался. Как раз в это время фронтовые части, организовавшие лагерь, передавали его СД – фашистской политической полиции. В течение недели ни старые, ни новые хозяева не позаботились накормить пленных. Многие умерли бы от голода, если бы не местные жители.
С утра и до темноты по ту сторону проволоки толпились женщины, приходившие из городка, из деревень, из соседних районов. Перебрасывали голодным людям куски хлеба, вареное мясо, огурцы, помидоры. Пашка Ракохруст от природы был силен, легко расталкивал других, поспевал ухватить первым. Были в лагере ослабевшие, пластом лежавшие от истощения. А Пашка разгуливал с сытым брюхом и в карманах кое-что носил про запас.
Прибывали новые пленные. Мест в помещениях не хватало, по вечерам нары брались с боем. Чуть ли не половина людей спала прямо на голой земле под открытым небом в любую погоду – и в дождь, и в холод. Немцы сделались злей. СД навело порядок, увеличило охрану и лагерную полицию. Привезли овчарок. Женщинам теперь не разрешалось приближаться к проволоке, пленным – тоже. По тем, кто подходил ближе чем на тридцать метров, стреляли без предупреждения. Несколько человек затравили собаками.
С того самого часа, когда поднял Пашка руки вверх перед немецким солдатом, находился он во власти одной мысли, одного стремления: выжить, сберечь себя до конца войны. Все, что он делал, было подчинено теперь только этому. Прежде всего он старался точно соблюдать установленные фашистами правила, чтобы не навлечь на себя их гнев. Давали команду строиться – он бежал первым. Приказывали сдать алюминиевые ложки (немцам нужен металл!) – многие пленные ложки свои или побросали в уборную, или зарыли, или прятали в карманах. А Пашка отдал свою сразу же.
Близилась зима. Ночные заморозки ударили уже в конце сентября. Готовясь к холодам, Ракохруст предусмотрительно собирал одежонку. В лагере каждые сутки умирали от голода, ран и болезней десятки, а может, и сотни человек, Пашка вызвался работать на уборке трупов, и ему удалось добыть кое-что. С одного мертвеца снял хорошую гимнастерку, с другого – шинель. Теперь у него было что подстелить под себя и чем укрыться.
Казарма и склады, превращенные в бараки, не отапливались. В помещениях всегда темно – окна забиты фанерой. Свободно гулял ветер. На трехъярусных нарах и под нарами впокат спали люди, притиснутые один к одному. Грелись друг о друга, но только мало в каждом сохранилось тепла. Жечь костры немцы не разрешали, да и не из чего было их разводить. Пашка выменял за полпайка хлеба проржавевшую каску и всюду таскал ее за собой на проволочной дужке, поддерживая в ней огонек. Ночью ставил каску на кирпич в изголовье.
Два раза в день немцы выдавали каждому по 750 граммов вонючей мутной похлёбки. Каждому полагалось по 200 граммов хлеба. И это все. На таком пайке люди через месяц становились похожими на ходячие скелеты. А Пашкино молодое, по-бычьи здоровое тело требовало много пищи. Муки голода оттесняли все другие переживания.
С завистью смотрел Ракохруст на полицаев. В лагере было их больше сотни. Жили они в тепле, в бывших домах комсостава, рядом с немецкими солдатами. Комендант выдал им ватники и сапоги. Сытые, довольные, разгуливали они по лагерю, следили за порядком во время работ и раздачи пищи. У них имелись дубинки и плетки, а особо отличившиеся получили даже оружие.
Но попасть в полицаи было трудно. Немцы тщательно подбирали людей. Брали главным образом уголовников, кто при Советской власти сидел в тюрьме, да и то не всех, а по рекомендации заслуживших доверие. Правда, Пашка знал один способ, но его удерживал безотчетный страх. Он сам не мог сказать точно, кого и чего боится.
Жизнь вообще была устроена не так, как хотелось Ракохрусту. Он никогда еще не чувствовал себя совершенно свободным и не мог поступать всегда по своему желанию. Кто-то направлял его, поучал, всюду были невидимые, неизвестно кем и когда установленные границы, правила, сковывавшие его стремления. Это проявлялось и в большом и в малом. В школе он не хотел учить литературу – его заставляли. Начал курить – ругали.
Девчонка сказала ему, что он негодяй. Пашка за это ударил ее – потом полгода таскали по комсомольским собраниям и бюро. Ему нравилось одеваться ярко и броско – ребята прозвали его франтом. Занимаясь в училище, он подыскал себе замужнюю бабенку, встречался с ней без хлопот на квартире подруги – обвинили в моральном разложении… Он совсем не желал идти в бой, рисковать жизнью – его погнали, как всех… Только внутри себя он мог быть собственным «я», ощущать себя индивидуумом, думать и оценивать события так, как ему хочется.
И даже здесь, в плену, где, казалось, каждый отвечает сам за себя, Ракохруст продолжал ощущать действие каких-то внешних сил. Даже здесь он чувствовал, как кто-то или что-то продолжает руководить всеми ими, исподволь пытается направлять их духовную жизнь. Такое чувство возникало, когда он читал листовки, написанные от руки и передававшиеся от одного к другому. В лагере у них был пожилой, лет пятидесяти, полицай, которого ненавидели все пленные. Он распоряжался при раздаче пищи. Стоило человеку чуть замешкаться возле котла, как он ударом ноги вышибал у пленного жестянку с похлебкой. Каждый день из-за него оставались без баланды десять-пятнадцать человек. В последний раз его видели вечером, когда он один вышел из кухни. До лагерных ворот он не дошел… Потом полицаи долго и безуспешно искали его. Тогда Пашка снова подумал о той силе, которая незримо присутствовала даже здесь.
И все-таки голод и желание сохранить себя брали верх.
В конце октября температура резко упала градусов до пятнадцати ниже нуля. Пашка не спал всю ночь. За кутавшись в две шинели, раздувал угли в каске, согревал руки, лицо. Он был доволен, что вовремя позаботился об одежде. Многие пленные имели только летнее обмундирование: пилотки да грязные, истрепанные гимнастерки. На ногах – холодные деревянные башмаки, выданные немцами взамен отобранных сапог. Те, кто еще имел силы, согревались движениями. Больные и ослабевшие замерзали. С трупов сразу снимали одежду, все, что могло сохранять тепло.
Наутро Пашка вышел во двор. От выпавшего снега было очень светло, чисто и празднично. На плацу и возле построек виднелось большое количество бугорков. Рабочие похоронного отряда, «капутчики», как называли их в лагере, переходили от одного бугорка к другому, волоча за собой армейские двуколки. Громыхали и скрипели несмазанные колеса. «Капутчики» молча и быстро раскапывали бугорки, вытаскивали из-под снега трупы. Раскачав, бросали их в двуколку: окоченевшие мертвецы твердо стукались друг о друга.
Пашка смотрел и думал, что если так пойдет и дальше, то и ему несдобровать. Зима ведь еще только начинается. Чего он ждет? Надо решиться один раз, и только. Перешагнуть черту и начать все снова. Если он ослабеет, то совсем не будет нужен немцам, пропадут последние шансы.
Случайный разговор с красноармейцем Кулибабой ускорил его решение.
Не виделись они давно. Кулибаба, у которого было повреждено плечо, жил в казарме, где пленные советские врачи кое-как оборудовали под госпиталь несколько комнат. В этом госпитале не было ни лекарств, ни коек. Те же нары и та же еда. От других блоков госпиталь отличался только тем, что там поменьше народу и оттуда не гоняли на работу.
Они встретились возле казармы. Кулибаба шел навстречу, опираясь о стенку, медленно передвигая ноги, обернутые тряпьем и обмотанные сверху бечевкой. На голове поверх пилотки повязано замусоленное полотенце. К ремню подвешена на веревочке ржавая консервная банка для баланды. У Кулибабы по-стариковски провалился рот, запали щеки, кожа на лице серая.
– Ты еще жив, недоносок? – удивился Пашка. – Я думал, загнулся давно.
– Сам недоносок, – со спокойствием, которое и раньше выводило из себя Ракохруста, ответил Кулибаба, – Сам на десять лет раньше загнешься.
– На вот, выкуси! – показал Пашка. – Через пяток дней, самое крайнее через неделю, перекинешься, как миленький. Ляжешь и не встанешь. Не нравилась тебе на аэродроме легкая жизнь, вот теперь и пухни с баланды… Комсомольский билетик-то носишь еще или на растопку пустил?
– Не твое собачье дело, – ответил Кулибаба, и по его тону Пашка догадался, что этот упрямый балбес действительно хранит до сих пор билет при себе.
– Что же, теплей тебе от этого документика? Или сытней? – издевался Ракохруст. – Ты хоть на этом свете бумагу-то используй, на том свете не пригодится.
– Был ты сволочью, сволочью и остался, – спокойно произнес Кулибаба и пошел дальше.
Встреча всколыхнула Пашкину злобу. Не будь этого сопляка, до сих пор работал бы он в аэродромной команде. Грузил бы немцам бомбы, спал бы в тепле, сытно ел. Двух человек ненавидел в своей жизни Ракохруст, двум человекам поклялся обязательно отомстить: Игорю Булгакову – за драку в лесу, за то, что ославил тогда на весь город, и Кулибабе – за то, что не поддался ему, открыто презирал его и не боялся сказать в лицо любое слово.
Булгаков – это далекое прошлое. И та драка казалась теперь мелочью, пустяком. А с Кулибабой надо было рассчитаться. Черт его знает, может действительно выживет этот хилый на вид парень, сбережет комсомольский билет, явится к своим. И уж не пожалеет он красок расписать Пашку в самом подходящем виде. Лишним, ненужным свидетелем был этот самый Кулибаба.
Раньше Ракохруст намеревался использовать для своих планов другого человека. У них в блоке под видом красноармейца скрывался батальонный комиссар. Об этом знали не многие… А теперь комиссара можно оставить про запас, можно было отыграться на Кулибабе.
Наступил обед. Кухонные рабочие принесли в блок корзины с нарезанными пайками хлеба. Пайки раздавали тем, кто не мог подняться и идти к кухне. Вокруг корзин, как обычно, столпились люди. Держались на расстоянии, голодными глазами глядя на черные кирпичики, надеясь на какое-то чудо, когда можно будет кинуться к корзине, хватать, запихивать в рот, рвать зубами этот хлеб, таивший в тебе тепло и жизнь.
Несколько полицейских, обступив корзины, помахивали ременными плетками, не подпуская людей. Пашка, делая знаки рукой, выдвинулся чуть вперед, но полицейский не понял его.
– Куда, сволочь! – и так секанул плетью, что лопнул рукав шинели. Ракохруст едва удержался на ногах. Вышел на улицу отдышаться. Натер снегом лицо. Он дождался полицейских у двери, шагнул к тому, который ударил его, и сказал шепотом:
– Имею важное сообщение.
– Хлебца хочешь? – оскалился полицейский. – Отступись, а то еще рубану!
– Важное сообщение, – повторил Пашка. – Отведите меня в гестапо.
Полицейские переглянулись: такого у них еще не было, чтобы пленный просился в гестапо. Они сами боялись этого учреждения, знали, что даже немцы стараются держаться от него подальше.
Через двадцать минут Пашка стоял навытяжку перед столом, за которым сидел моложавый капитан с крестом на мундире. Ракохруст разговаривал с ним через переводчика. Капитан слушал с явным интересом. Лагерное отделение гестапо было создано главным образом для того, чтобы выявлять среди пленных политработников, евреев и уничтожать их. Но сделать это было нелегко. Те политработники, которые не захотели скрыть свое звание, были уже расстреляны. Остальные затерялись в общей массе пленных. У капитана было мало работы, он скучал. А тут два таких факта: красноармеец с комсомольским билетом и батальонный комиссар (под видом рядового Пашка для большей убедительности выдал сразу и комиссара). Капитан теперь имел возможность составить большое донесение: благодаря пропаганде и агентурной работе нам стало известно и т. д. и т, п. Начальство будет довольно.
– Почему вы не говорили об этом раньше? – спросил он Ракохруста.
– Я не имел точных сведений… Мне хотелось принести пользу и заслужить доверие. Поэтому я не спешил.
– Хорошо, – сказал капитан. – Что вы делали до войны?
– Я учился… У меня сидел в тюрьме брат, – поспешно соврал Пашка, больше всего боявшийся, что его отправят обратно в блок. – Я сдался сам, в первые дни войны.
– Хорошо, – повторил капитан. – Отведите его к фельдфебелю, – приказал он солдату, стоявшему у двери. – Этот человек будет служить нам.
Из комендатуры Ракохруста повели к домам комсостава. Когда проходили мимо главных ворот, Пашка увидел переводчика, шагавшего с шестью автоматчиками к бараку, в котором скрывался батальонный комиссар. На секунду дрогнуло сердце Пашки. Но он тут же успокоил себя: комиссара расстреляют, никому не будет известно, кто его выдал.
В этот день Ракохруст в бане смыл с себя толстый слой грязи, наелся до отвала щей и гречневой каши, до тошноты накурился слабых немецких сигарет. Потом фельдфебель выдал ему хорошую командирскую шинель, почти новые сапоги, шапку, резиновую дубинку и красную нарукавную повязку, на которой белыми буквами било вышито: «полицай».
* * *Близилось утро, а Гудериан все еще не мог уснуть. Сначала было холодно, и ему дали грелку. Озноб прошел, но заболело сердце. Пожалуй, это было не физическое недомогание, сердце ныло от тяжелых предчувствий. Гейнц вставал, ходил по комнате, снова ложился. Сосредоточенно думал, стараясь понять, что же, собственно, так взволновало его.
Он ездил под Тулу, чтобы лично наблюдать за боем. Этот город немцы штурмовали уже две недели. Гудериан просто обошел бы его, оставив в осаде, но город находился на пути к Москве, закупоривал, как пробка, единственную в этих местах автомагистраль.
Для Гудериана бой являлся всегда интересным зрелищем, во время которого могут происходить трагические случайности, но которое обязательно оканчивается благополучно. Гейнц знал, что сила всегда на его стороне. С тех пор как стал генералом, он не проиграл ни одного сражения. Тула – это первый город, который ему необходимо было захватить и который он никак не мог взять.
Сегодня подготовили все, чтобы прорвать позиции русских. Против советской пехоты и рабочих отрядов, занимавших оборону, были выставлены лучшие части: танковая бригада полковника Эбербаха и полк СС «Великая Германия». Как всегда, позиции русских пробомбила авиация, как всегда, не жалели снарядов артиллеристы.
Место для наблюдения за боем было выбрано на возвышенности. Гудериана не предупредили, что тут помещается кладбище немецких солдат. Ровными рядами стояли одинаковые березовые кресты с дощечками, накрытые сверху касками. Конца кладбища не было видно. У Гейнца сразу испортилось настроение.
Было холодно. В воздухе висел прозрачный морозный туман. Гудериан, боясь простыть, не вылезал из машины. Он следил за атакой в бинокль. Танки ползли по широкому снежному полю, испятнанному черными кругами воронок. К некоторым машинам были прицеплены волокуши с автоматчиками. За танками следовали пехотинцы.
В Туле находились большие заводы, и Гудериан знал, что у русских тут достаточно артиллерии. Но Гейнц не предполагал, что огонь будет настолько эффективен. Машины останавливались одна за другой.
Обычно на позиции противника первыми врывались танки, давили стрелков, уничтожали пулеметные гнезда. Пехота закрепляла отвоеванное. А сейчас танки прошли едва половину пути. Уцелевшие повернули обратно. Всю тяжесть приняла на себя пехота. Ее наступающая цепь быстро редела, оставляя на снегу множество неподвижных тел. Но эсэсовцы все-таки ворвались в окопы русских, скрылись за домами населенного пункта. Скрылись – и больше не появлялись.
Когда на поле вышел второй эшелон атакующих – бронетранспортеры с автоматчиками, он был встречен организованным огнем русских с тех же самых позиций…
Генерал распорядился временно прекратить штурм города, блокировав его пехотными частями, а танкистам продолжать наступление на восток и северо-восток. В конце концов Тула была просто эпизодом, рано или поздно ее удастся отвоевать. Гудериана беспокоило другое: пока еще едва уловимое, не оформившееся отчетливо изменение, происшедшее в боевых действиях.
С точки зрения солдат и войсковых командиров все оставалось прежним. Солдаты продолжали воевать и, хоть и медленно, приближаться к Москве. Вряд ли ощущали изменения и в главном командовании. По имевшимся в Ставке данным, Гудериан располагал еще шестьюстами танками (вполовину меньше, чем при начале наступления на Орел). Если судить по цифрам, то у него вполне достаточно сил. Но сам Гейнц имел дело не с цифрами, а с машинами и людьми. Он мог использовать сейчас в первой линии не больше двух сотен танков. Другие машины либо находились на мелком ремонте, либо стояли без горючего, либо рассеялись по дорогам, помогая вытащить орудия и грузовики, застрявшие во время распутицы. От танковых корпусов остались только номера да штабы. Все машины, какие можно направить в бой, были сосредоточены в бригаде полковника Эбербаха. Танковая армия превратилась в обычную полевую армию. Правый фланг ее растянулся на сотни километров от Ефремова до Михайлова и продолжал растягиваться все больше, поглощая основную массу пехоты.
Случилось то, чего всегда боялся Гудериан: ему пришлось распылить свои силы. Произошло это незаметно. Полоса наступления оказалась слишком широкой. Русские контратаковали в разных местах. Боясь их прорыва, Гейнц направлял туда резервы. В результате у него не осталось ударного ядра. Он не способен был теперь пробить сплошной фронт, созданный русскими. Он мог только теснить советские войска, но не громить их. Фронтальное наступление приносило много жертв и мало успехов.
Военный термин «инициатива» в какой-то степени равнозначен существующему в физике термину «инерция». Если, например, разогнать с большой скоростью паровоз и после этого немного поддерживать давление в котле, паровоз пройдет значительное расстояние. Используя силу разбега. Это элементарно. В военном деле все, разумеется, гораздо сложней. Но армию, получившую сильный разбег, тоже трудно остановить, а еще трудней повернуть обратно.
Весь механизм наступающих войск настроен на продвижение вперед. Частные неудачи, которые при равновесии сил могли бы явиться причиной отступления, не останавливают движение, а только замедляют на время скорость. Солдаты и командиры привыкают сознавать свое превосходство над противником. Они верят в победу, действуют смело и энергично.
Гудериан прекрасно понимал, что утрата инициативы, особенно сейчас, когда войска находятся в центре России, поставила бы немцев в очень тяжелое положение. Зима, холод, растянутые коммуникации – это грозило гибелью. Солдаты должны непременно наступать, непременно добиваться успеха, не позволяя противнику диктовать свою волю. Так и было до сих пор. Однако теперь Гейнц все чаще ощущал, что инерция, набранная в начале войны, иссякает. Множество преград, встреченных на пути, постепенно погасило силу разбега.
Немцы продолжали отвоевывать небольшие города и деревни. Но Гудериан чувствовал, что события уже не повинуются ему, как прежде. Теперь его армия двигалась с большим трудом, и двигалась она не к определенной, желаемой цели, а в некое, почти абстрактное пространство. Не конкретно на Москву, а в общем направлении на Рязань, на Каширу. Армия двигалась не туда, куда хотел Гудериан, а туда, где противник оказывал меньшее сопротивление. Развитие событий все чаще зависело теперь не от желания и планов немецкого командования, а от количества русских сил на том или другом участке фронта.
Гудериан хотел бы остановить свои дивизии, переформировать и пополнить их, подтянуть тылы, технику. Хотел и не мог, так как соседи справа и слева продолжали наступать, и он должен был выполнять задачу вместе со всеми. И еще он не мог остановить свои дивизии потому, что русские сразу начали бы давить на них, не позволили бы сделать передышку, взяли инициативу в свои руки. Оставалось только идти вперед, надеясь или на чудо, или на то, что русские также перенапряжены и не способны на решительные действия.
Особенно скверно чувствовал себя Гейнц в эту ночь, после неудачного боя под Тулой. Он ослаб и физически и духовно. Единственно, чего ему хотелось сейчас, это очутиться в Берлине в тихой и теплой квартире. Сидеть бы в халате возле камина с книжкой в руке. Или пить кофе с Маргаритой, неторопливо разговаривать о детях, о домашних делах, о приятных, неволнующих пустяках.
Он не очень-то верил в бога, генерал-полковник Гейнц Гудериан. Он спокойно отправлял на смерть тысячи людей. Подчиненные боялись его жестокости. Генералы опасались интриг. Но в эту ночь, стоя на коленях, он горячо молил всевышнего не оставить милостью своей ни его, ни его семью, ни всю немецкую нацию.
Гейнц так и не уснул. К утру разболелась голова. Он приказал готовить машину. Вчера он нарочно не поехал в Орел, остановился на ночь в маленьком городишке с легко запоминающимся названием – Одуефф. Надеялся спокойно отдохнуть здесь, подумать в одиночестве. Но отдыха не получилось. Лучше бы он возвратился в штаб, занялся делами, отвлекся от неприятных предчувствий.
На восточной стороне неба разгоралась ярко-красная заря, чужая и холодная. Морозный воздух и свет наступающего дня подействовали на Гейнца отрезвляюще. Вскоре он даже упрекнул себя за то, что поддался слабости, без пользы взвинчивал свои нервы. В сущности все обстояло не так уж плохо. И если удастся получить две-три свежие дивизии для создания оперативного резерва, то можно будет избежать неприятных случайностей.
Гудериан уже сел в машину, когда подъехавший офицер связи вручил ему пакет с красной печатью. В пакете оказался текст приказа, полученного из Ставки по радио, и записка подполковника Либенштейна, запрашивающего, что предпринять.
Гитлер требовал от Гудериана выделить из состава армии подвижные батальоны – танки с мотопехотой – и бросить их вперед, в тыл русских, чтобы захватить и удержать в целости мосты через Оку.
Гейнц скомкал приказ и сунул его в карман шинели. Он даже не рассердился. В последнее время он получал слишком много невыполнимых приказов. Ни Гитлер, ни генералы его свиты не бывали на Восточном фронте и не представляли себе, что происходит здесь. Подвижные батальоны! Два месяца назад Гейнц и сам поступил бы так же. Он знал, когда и что надо делать. Но о каких батальонах могла идти сейчас речь, если он не имел возможности снять с фронта роту пехоты или десяток танков?
Лучше всего было не вступать в спор и оставить пока этот приказ без ответа.
* * *Некто Кислицын, человек в черном, пальто и в кожаной кепке, тот самый, что прибыл в Одуев вместе с немцами, открыл в помещении универмага свой магазин. Все лучшее, что оказалось на складах и в торговых точках райпотребсоюза, начиная от велосипедов и кончая детским бельем, забрали себе немцы из комендатуры. Остатки подобрал Кислицын. Торговал он скобяным товаром, красками, школьными пеналами, ночными горшками, березовыми вениками, гвоздями и топорищами. Оккупационных марок и пфеннигов у населения еще не имелось, поэтому Кислицын принимал советские деньги. Но особенно охотно брал натурой: салом, мясом, картошкой. Не брезговал и самогоном.
О Кислицыне говорили разное. Одни утверждали, что он раскулаченный и бежал с Соловков. Другие передавали якобы достоверный слух: до войны он заведовал сберкассой на Смоленщине, а с приближением фронта хапанул кругленькую сумму и переметнулся к фашистам. Как бы там ни было, но Кислицын являлся правой рукой коменданта, который назначил его начальником районной полиции. Боялись его не меньше, чем немцев.