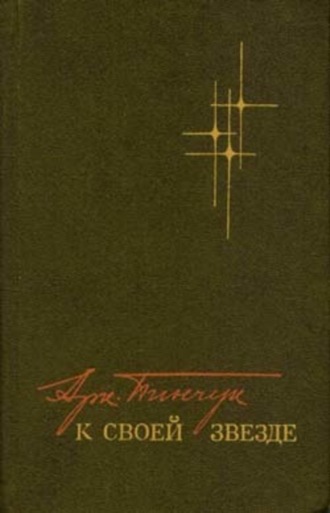 полная версия
полная версияК своей звезде
– Во-о-он! – гаркнул Гринько.
– Это не уставная команда, – заметил спокойно Волков и вышел.
Гринько молчал минут десять. Свесив над картой серебристый чуб, он упирался в стол крепко сжатыми кулаками и не мигая смотрел в одну точку. Под загорелой кожей рук матово белели напряженные суставы пальцев.
– Сукин сын, – наконец прохрипел он. – Молоко на губах не обсохло, а туда же, учить. Посмотрю я, как он будет садиться на грунт. И техника к самолету не подпускай, Павел Иванович. Он инженер с дипломом. Пусть к повторному полету самолет на запасном аэродроме готовит сам. Под контролем, конечно.
План учений был перепахан с ног до головы. Работа с грунтовых аэродромов стала главной на учениях, а Волков все задания выполнил четко и даже, можно сказать, с блеском. Когда командующий похвалил офицеров штаба за грамотную разработку учений, Гринько сказал Чижу:
– Представляй этого сукиного сына на командира звена. Поддержим. А то начнет командующего поправлять.
Он же выдвинул Волкова и на должность комэска, и на учебу послал в академию. Когда Волков, завершив образование, возвратился в полк к Чижу заместителем, Гринько уже был на пенсии.
– «Полсотни первый», я «Медовый», вы на посадочном, удаление двадцать.
Точку в пространстве, где должен появиться идущий на посадку самолет, Чиж обычно находил сразу. Беспрерывно работающий компьютер в уме считал безошибочно, как только задавались параметры. Скорость, удаление известны, остальное – дело техники.
– Шасси выпущены! – выкрикнул наблюдатель, не отрывая глаз от прибора.
Чиж направил взгляд в ту самую точку в пространстве, но самолета не обнаружил. «Неужто и глаза ни к хрену?» – мелькнуло тоскливое предположение. И тут он увидел самолет Волкова. Похожий на раскоряченного петуха истребитель снижался по крутой глиссаде. На таком удалении ему следовало иметь значительно меньшую высоту.
– Разучился садиться он, что ли, – буркнул Чиж, сжимая в руке «матюгальник» – так нелепо называли летчики командирский микрофон.
– Просто у этого самолета иная глиссада, – спокойно подсказал штурман.
Ну конечно же! Как он мог такое забыть?
От огорчения заныло в левом плече. Чиж расслабил руку, встряхнул кисть, но боль продолжала сверлить плечо и даже перекинулась ниже, к локтевому суставу.
– Удаление два, – сказал динамик, и Чиж опять с тревогой посмотрел на самолет Волкова: не мог он убедить себя, что такая глиссада соответствует заданной. Укоренившаяся годами привычка сидела в нем, как ржавый гвоздь в сухом дереве.
– Над ближним!
«Сядет с перелетом», – решил Чиж и, уже не отрывая глаз, стал следить за посадкой командира полка. Самолет явно «сыпался». Но у земли плавно выровнялся, показалось – еще больше растопырил ноги, заскользил над серым бетоном и коснулся колесами полосы в том самом месте, где вся она была исписана черными продольными мазками. Каждый возвратившийся на землю самолет оставлял здесь автограф, свидетельствующий о благополучном завершении полета. Два дымка под колесами командирского самолета подтвердили – посадка произведена по высшему классу. Значит, руководителю полетов придется осваивать новые посадочные параметры.
За самолетом Волкова еще трепетал серый крест тормозного парашюта, а разрешение на посадку уже запрашивали «полсотни пятый» и «полсотни шестой».
– «Полсотни пятый», я «Медовый», посадку разрешаю.
– Вас понял.
Чиж быстро взглянул на Юлю. Ничего. Работает. Закопалась в расчетах. Ни одна жилка на лице не дрогнула. Может, он, старый дурак, чего-то навоображал? Желаемое за действительное принял? Юля ведь все видит. Коля Муравко ему нравится, вот и она делает вид, что разделяет отцовское чувство. А на самом деле…
А что может быть на самом деле? Если бы что-то было, разве Юлька стала бы скрывать? С ним она в первую очередь поделится. В прошлом году механик по вооружению Юра Голубков влюбился по уши, руку предлагал, Юлька сразу ввела отца в курс. До сих пор парень шлет из Волгограда письма, все еще не теряет надежды. Прекрасный был сержант – золотые руки и башка на своем месте. А она к нему – ноль внимания. Что тут поделаешь?
Николая Муравко Чиж полюбил сразу. Распахнутая настежь душа, неиссякаемая щедрость на добро и вместе с тем непримиримая твердость ко всему, чего душа его не приемлет. Когда Муравко присвоили очередное воинское звание, он пригласил друзей в кафе. Сам пил только минеральную воду. Как его ни пытались совратить, какие ни придумывали формулировки – стоял как скала. Смеялся вместе со всеми, поддакивал, но пил исключительно минералку. Другого назвали бы белой вороной, еще как-то, а к Коле не цепляются ни клички, ни ярлыки.
– Небо любит чистоту. Любая грязь на его фоне видна всем. Даже если она спрятана глубоко в душе.
Это его слова. Сказал их Муравко на своем первом партийном собрании, когда разбирали предпосылку к летному происшествию, совершенную одним молодым пилотом. Сказанное отложилось в сознании летчиков полка, и к Муравко стали приглядываться – не расходится ли у этого парня слово с делом? Нет, не расходится. Предан небу без остатка. Чижу такие ребята по душе. Небо за преданность платит верностью, одаривает по самой высокой мерке.
– «Медовый», я «полсотни шестой», «добро» бы на посадку.
Этот не может без фокусов.
Уже около года, как ушел из морской авиации. А с терминологией своей расстается нехотя. Руслана Горелова Чиж любит странной любовью. Как любят в большой семье самого младшего ребенка. У мальчика от природы талант летчика. И хотя еще много в голове мусора, летает Горелов красиво. По этой части к нему не придраться. А Чиж уверен – красиво летать может только красивый человек. Шелуха должна осыпаться, и будет летчик что надо.
– «Полсотни шестому» «добро» на посадку… Садись, салага, – уже с улыбкой добавил Чиж совсем неуставную фразу.
– «Медовый», я «полсотни седьмой», прошу заход на посадку.
Вот и Ефимов. Чиж взглянул на часы. Нина должна еще ждать. Обрадуется? А может, какая-нибудь беда его ждет?
Ефимов чем-то отдаленно напоминал Чижу Филимона Качева. Душевной углубленностью, что ли? Как и Филимон Качев, он умеет внимательно слушать, немногословен, чуток к любой несправедливости. Однажды Волков отругал его за грубую посадку, не разобравшись в причине. А человека следовало похвалить. В момент посадки самолет потянуло к земле. Растеряйся Ефимов хотя бы на мгновенье, и быть беде. Но он успел выровнять самолет и посадил его хоть и не очень чисто, но вполне надежно.
Когда Волков разобрался в причине предпосылки к летному происшествию – была обнаружена неисправность механизма автоматической загрузки ручки, – он извинился перед Ефимовым.
Но Федор написал Чижу рапорт: ваш заместитель оскорбил меня при всех, а извинился наедине. Чиж о рапорте промолчал, но Волкову посоветовал прилюдно признать свою ошибку – дескать, это тебе только прибавит авторитета. И Волков согласился. На разборе полетов он скрупулезно проанализировал действия Ефимова, похвалил за выдержку в экстремальной ситуации.
– К сожалению, подобной выдержки не хватило мне при оценке случившегося, – сказал он спокойно, – и я извиняюсь за те резкие слова, которые сказал в адрес Ефимова.
Конфликт ушел в песок, но случай этот вспоминают в полку до сих пор, вывели из него нравственную формулу: «Признавая достоинства другого, повышаешь свой авторитет…»
– «Медовый», я «полсотни третий», разрешите выход на точку.
– Разрешаю, «полсотни третий».
– Вас понял, Павел Иванович, дайте прибой.
– «Полсотни третий», занимайте посадочный, удаление сорок, прибой двести тридцать шесть, режим.
– Понял, «Медовый», выполняю.
Даже профильтрованный радиоаппаратурой голос Новикова доходил до руководителя полетов окрашенным в теплые тона. Чиж только сейчас почувствовал, как он соскучился, как ему остро не хватало все эти дни общения с человеком, занявшим в его сердце особое, будто специально для него подготовленное место.
В полк, на должность заместителя командира по политчасти, Новиков прибыл после учебы. Чижа раздражала его спокойная неторопливость, осторожность в решениях, неразворотливость. Но в дни подготовки отчетно-выборного партийного собрания Новиков проявил себя сразу. Во всем, что он делал и говорил, чувствовались глубокая компетентность, уверенность и целеустремленность. Он не терпел скольжения по поверхности, бездоказательности в выводах. Каждый свой поступок обстоятельно аргументировал и того же требовал от других.
Чиж понял, что поторопился с выводами. Осторожность и неторопливость на первых шагах теперь объяснялась просто: политработник скрупулезно вникал в дело. И пока не докопался до корней, с оценками не спешил.
Сблизила их окончательно беда. На одном из медосмотров у Чижа подскочило давление. Вместе с Новиковым он готовился слетать в «спарке» на разведку погоды. Новиков полетел с Ефимовым.
Давление держалось, и Чижа уложили в госпиталь. Обследование еще не закончилось, а полк уже гудел: командира списывают с летной работы. Не дожидаясь окончательного приговора медиков, Новиков уехал в Ленинград и договорился, чтобы Чижа самым тщательным образом обследовали в Военно-медицинской академии.
В госпиталь он пришел к нему возбужденно-уверенным. Широкие брови при каждом междометии вставали над переносицей домиком, прятались под густой челкой. Глаза сверкали благородным гневом.
– Я все эти позорные бумажки, – тряс Новиков анализами и кардиограммами, – показывал самым крупным спецам. Перестраховщики тут у нас в госпитале, говорят они. Надо немедленно ехать в академию. Там все поставят на свои места. Вы еще долго будете летать, дорогой Павел Иванович. Будете!
Пребывание в Военно-медицинской академии врезалось в память осенним этюдом: по окну царапают голые ветки липы, в огромной луже на асфальте мелкие желтые листья и все время тоскливо, на одной ноте, гудит ветер.
В полк Павел Иванович Чиж вернулся уже с подрезанными крыльями – сколько ни маши, не взлетишь. Встречавший его на вокзале Новиков заплакал. Чиж обнял его и растроганно сказал:
– Не надо, Сережа, мы еще с тобой послужим.
Валяясь на койке в клинике, Чиж мучительно искал выхода. Он пытался представить себя без авиации, без своего полка и не мог. Только среди самолетов, среди аэродромных запахов и звуков, рядом с авиационной братией, где его опыт был еще многим нужен, он видел смысл дальнейшей жизни, возможность быть полезным. Если все это отнять, что останется? Ждать смерти?
Перед отъездом Чиж зашел в штаб ВВС округа, встретился с командующим. Генерал принял его радушно, вышел из-за стола, сел в кресло рядом с журнальным столиком.
– Не бери в голову, Паша, – сказал он, вытащив зубами пробку из коньячной бутылки. С Чижом они вместе воевали, в одной дивизии. Были когда-то в равных званиях. Потому генерал никогда не обращался к Чижу официально. Чиж тоже не «выкал», но все же называл генерала по имени и отчеству. Так ему было удобнее.
– Дадим тебе должность в Ленинграде. Ольга ждет не дождется.
– Не о ней речь. – Чиж помолчал. – Пойми меня, Александр Васильевич, – хочу в полк. Буду руководить полетами.
– Я-то пойму. А что другие скажут? Ты подумай, Паша.
– Подумал, Александр Васильевич. А полк пусть Волков принимает. Если захочет – помогу.
Новиков решение Чижа встретил как подарок судьбы. Домой зазвал, пир горой устроил, всем говорил одно и то же:
– Я верил, что Павел Иванович будет с нами.
Через два месяца Чиж передал полк своему заместителю подполковнику Волкову. Иван Дмитриевич принял руководящий жезл как должное, спокойно и уверенно. Чижа попросил:
– Заметите серьезную ошибку, подскажете. В мелочах сам разберусь.
Дни шли утомительно, складывались в недели, месяцы, раны рубцевались. В своей новой работе Чиж даже находил массу преимуществ. А то, что иногда вскипало на душе, никого не касалось. Он верил – время довершит свое дело.
И не ошибся. В руководстве полетами его опыт оказался золотым резервом. Летчики верили каждому слову Чижа. И не только в воздухе.
Кто-то допустил ошибку в пилотаже – к Чижу. Надо разобраться, он точно определит причину. Нелады в семье – можно отвести душу с Павлом Ивановичем. Свадьба – Чиж в красном углу. «Без Чижа нельзя, ребята. Чиж, он и в Африке Чиж».
Сел замыкающий самолет. И небо стихло, словно где-то отпустили туго натянутую струну. Эскадрилья выстраивалась на первой стоянке, это справа от вышки, буквально в двадцати метрах. Чиж видел, как Волков тихо развернул хвост, резко затормозил и выключил двигатель. Техник подал стремянку, и командир, откинув прозрачный фонарь, легко сошел на землю. Перелет не очень утомил Волкова. Он был еще чертовски молод – тридцать семь лет.
Пока Чиж спускался вниз, Волков ушел в класс, где хранится высотное снаряжение летчиков. Здесь они облачаются перед полетом в свои марсианские костюмы, здесь и снимают их, пропитанные потом. У каждого летчика свой шкаф, своя полочка для герметического и защитного шлемов, для специальной обуви, рядом душевая и комната отдыха.
Чиж подошел к самолету. Техник и механики, прибывшие с переподготовки неделю назад, уже по-хозяйски ощупывали долгожданную машину, выкрикивали понятные только авиаторам слова и команды, не смущались и не робели перед этим полным загадок аппаратом.
Если МИГ предыдущего поколения поразил в свое время Чижа стремительностью, готовностью чуть ли не со стоянки взмыть в небо, совершенством аэродинамических форм, нынешний удивил несуразностью линий, непривычностью форм. Вместо открытого заборника с острым конусом в центре – длинный обтекаемый клюв, квадратные короба заборников нелепо выпирали по бокам фюзеляжа, вместо стреловидного треугольника крыльев торчат две узкие прямые плоскости. А шасси? Узловаты, вывернуты, как у кузнечика, коленками назад. Нет, не приглянулась эта техника Чижу.
Он поднялся по стремянке и заглянул в кабину. Знакомые запахи лаков заставили учащенно забиться сердце, перехватило дыхание. Неодолимо захотелось протянуть руку к стройным рядам тумблеров, естественным, как дыхание, жестом врубить системы, запросить разрешение и нажать кнопку запуска…
Кажется, еще вчера все это было возможным. Еще вчера ему весело подмигивали приборы, нетерпеливо подрагивая стрелками, с готовностью ждал команды многотысячный табун лошадиных сил, втиснутый в чрево фюзеляжа, гостеприимно раскатывалась по зеленому полю до самого неба бетонная дорожка – пожалуйста, взлетай…
– Еще вчера… Черта с два! Все это было в прошлом веке! При царе Горохе! До нашей эры!
– Летели над морем – внутри так и дрогнуло, – услышал Чиж голос Руслана Горелова. – И зачем я ушел из морской авиации?
Чиж улыбнулся, и взгляды их встретились. Руслан придержал Муравко и вскинул ладонь к шлему.
– Товарищ полковник, лейтенант Горелов закончил переучиваться и благополучно возвратился домой на новом самолете.
– Здравствуйте, Павел Иванович, – расплылся в улыбке и Коля Муравко.
Они обнялись.
– Возмужали, повзрослели, ум в глазах, сила в бицепсах, – приговаривал Чиж.
– А Лизавету мою не видели? – В глазах Руслана трепетало нетерпение.
– Цветет твоя Лизавета. В кино с кавалерами бегает.
– Скажете, Павел Иванович, – не поверил Руслан.
– А ты спроси сам – с кем она ходила, – добавил Чиж и подмигнул Руслану.
– Вы разыгрываете, Павел Иванович?.. – Руслан уже насторожился.
– Расскажите-ка лучше, как новый аппарат? – спросил Чиж.
– Новый аппарат дремать не дает! – вклинился в разговор подошедший Новиков. – Соскучились мы без вас, дорогой Павел Иванович!
С Новиковым Чиж расцеловался.
– Соскучились, а ни одного письма.
– Не до писем было, честное слово. За три месяца такого зверя одолели! – Новиков кивнул в сторону самолетной стоянки. – Благоверной всего одну писульку послал. Он же из нас все соки выдавил, жеребец этакий! – В голосе замполита звучали ласковые ноты.
Подбежавшую Юлю летчики встретили не в меру радостными возгласами.
– А где Ефимов? – спросила Юля.
– Мы спорили, – улыбнулся Муравко, – не знали, кого ты больше всех ждешь. Теперь ясно – Ефимова!
– За проницательность – пятерка, – улыбнулась в ответ Юля. – К Ефимову приехала женщина. Нина Михайловна. С утра томится возле КПП. Увидите – передайте.
– Везет же некоторым, – продолжал все в том же тоне Муравко.
– Заслужили, значит, – парировала Юля.
Новиков и Чиж отошли несколько в сторону от молодых летчиков, и до Чижа долетали лишь отдельные фразы, из которых он понял, что Юля просит Муравко выступить перед студентами института авиаприборостроения, в котором учится, а Муравко хочет переложить эту просьбу на Руслана. «Прирожденный оратор, хлебом не корми, дай только о морской авиации поговорить».
– Есть новости? – Чиж в сосредоточенном молчании Новикова уловил какую-то недосказанность.
– Есть, Павел Иванович. – Новиков вздохнул. – Перелет был задержан не из-за погоды. Нас с Волковым вызывали в Москву.
– Туда зря не вызывают.
– Не вызывают, – как эхо прозвучал голос Новикова и умолк.
– Не томи, Сергей Петрович.
– Да что уж… Перебрасывают наш полк на Север. На необжитые места.
– Как скоро?
– Завершим переучивание – и вперед.
Чиж прикинул: сегодня вернулась последняя группа летчиков, прошедших курс переучивания. Месяц интенсивных занятий – и полк будет на крыле. А технику получить – дело нескольких дней. Сядет на аэродром эскадрилья, летчики, пригнавшие самолеты, уедут поездом, а техника останется. Вот и вся аптека. Так что месяц-полтора, не больше. А может, и меньше.
– Ну что ж, Север так Север. На войне не успевали осмотреться, а уже новый аэродром. Не впервой, перелетим.
Новиков поддакнул:
– Вот именно, не впервой. Только на войне, мне кажется, делать это было проще.
– В каком смысле?
– Во всех смыслах.
– Ничего. Проведем работу.
– Да, конечно. Работу будем вести. Без этого нам крышка. Только эта новость волны погонит огромные…
– Как Волков?
– А Волкову что, Павел Иванович. Он, наверное, уйдет. Разговор сугубо между нами, но вы должны знать: ему предлагают новую должность. Дали время подумать, пока будет готовить полк к перелету. Мне кажется, Волков уйдет раньше. Если есть решение назначить нового командира, он должен принять полк здесь, до перелета. Элементарная логика.
– Элементарная логика хороша в математике. А люди, Сергей Петрович, они и в Африке люди.
– Так-то оно так… А только…
– Утро вечера мудренее. Поживем – увидим. Иди, переоденься. Через полчаса совещание.
Да, комиссар подкинул информацию к размышлению. Не дай бог узнает Ольга – все сделает, чтобы не отпустить Юлю. Чиж представил жену за руководящим столом. Телефонный звонок. Неторопливый жест, усталое «алле!» и деловое внимание… Затем трубка с грохотом летит на аппарат, и Ольга лихорадочно соображает – что предпринять? Она уже давно ищет повод, чтобы перейти в активное наступление, но силы пока неравные – Юля железно стоит на своем.
А что, может, и в самом деле подумать о переезде в Питер? Вот Юля расхохочется, если узнает мысли Чижа. «Стареешь, – скажет, – папуля, стареешь». Да ведь все мы в ту сторону движемся, обратно – еще никто не встречался.
3
Все военные аэродромы похожи один на другой, как однотипные самолеты. Бескрайнее поле, исчерченное вкривь и вкось бетонными полосами. Взлетно-посадочная – пошире и подлиннее, рулежки – покороче и поуже. Командные пункты, системы посадки, спецплощадки, склады, копаниры, классы, ангары, что там еще? Сколько перевидел их Ефимов в дни летно-тактических учений и всегда отмечал: похожи, как самолеты на стоянке.
А сегодня сделал открытие – ни черта подобного, свой-то родным кажется. Хоть и чахлый лесочек отделял аэродром от шоссейной дороги, но есть в нем одна особенность. Приветливый он, лесочек. Даже боровички по осени дарит иногда.
И «летный» домик здесь веселенький, нарядно подкрашен, клумбы с цветами. И вышка со своим лицом. Силуэт у нее самобытный – ни с какой другой не перепутаешь, особенно с воздуха.
А Юлька? Юлия Павловна то есть. Тоже ведь достопримечательность. Вон, бежит к нему, улыбается.
Ефимов часто бывал у Чижа дома, заходил в Ленинграде и к его жене Ольге Алексеевне, директору НИИ. Бывал у нее в квартире на Фонтанке. Видел иногда Чижа вместе с женой и дочерью. Встречи эти всегда оставляли в его душе какие-то не дающие покоя зарубочки. Нет-нет да и всплывали в памяти, бередили душу, наталкивали на ассоциации. Было в судьбе Чижа, в его семейной жизни нечто до удивления гордое и нечто горькое, такое же нелепообидное, как и в судьбе Ефимова. Однолюбство, что ли?
– Товарищ капитан! С прибытием! С возвращением!
– Спасибо, золотце! Соскучилась?
– С вас коробка конфет, я первая сообщаю. Лады?
– Лады! – Ефимов начал лихорадочно перебирать варианты возможных сюрпризов. Звание? Рано. Квартира? Вряд ли. Медаль? Точно! За десять лет выслуги. – Медаль?
Юля засмеялась:
– Орден! К вам гость – Нина Михайлова ждет у проходной. С утра.
Ефимов остановился. В лицо ударило, как при перегрузке, – не может быть.
Сначала он рванулся к «летному» домику – переодеться! Но тут же вспомнил: скоро совещание, надо успеть до начала. У беседки, где летчики все еще делились впечатлениями от перелета, он кинул Муравко защитный шлем и наколенный планшет.
– Забрось в мой «пенал». Я скоро! – И, уже не сдерживая себя, размашисто-быстро зашагал напрямик по полю в сторону КПП. Боковым зрением Ефимов засек выходившего из «летного» домика Волкова. В кителе, при фуражке. «Сейчас вернет», – подумал почти с испугом, но Волков не окликнул. Ну и слава богу. Сейчас Ефимов только попросит Нину, чтобы еще чуточку потерпела, пока закончится совещание. А потом в их распоряжении и вечер, и ночь. Конечно же, он никуда ее не отпустит. Потом у него еще отпуск и еще целая жизнь впереди. И Нина молодец, прикатила, угадала, о чем телеграмма. Умница!
И вдруг в мажор его мыслей ворвалась тревожная нота. Может, что случилось? Но если она здесь, что могло случиться? Приехала сказать, чтобы он больше не писал, не звонил, не появлялся? Черт, как далеко, оказывается, КПП от «летного» домика.
Он почти побежал, отрывочно вспоминая смысл одного из присланных ею писем, не на шутку встревоживших Ефимова. Нина путано писала о муже, о дочери, о том, как она обязана им всем, чем одарила ее судьба. Человеку, способному предать все это, она не могла даже подобрать оценки. «Ничто не способно оправдать мое поведение. Ничто. Даже любовь. У предательства одно имя – предательство». И уже на другой день Ефимов читал совсем иные строки: «Я знаю, ты все поймешь – и радость мою, и муки. И, что бы я тебе ни писала, ты помни главное – я твоя. Предназначена тебе от рождения. Просто обстоятельства были против нас. И, если мы не запасемся терпением, нам не одолеть их. Ты мне поможешь, я знаю».
Протиснувшись сквозь турникет КПП, Ефимов на секунду замер: Нина уходила.
– Нина! – окликнул он торопливо.
– Федя!.. Господи… – Она обессиленно опустила руки и показалась Ефимову трогательно хрупкой, худенькой, невесомой. После первой встречи Нина запомнилась ему крепкой и плотной. Видимо, эти три месяца были у нее нелегкими.
– Нина…
Она только шевельнула губами, в сощуренных глазах подрагивали вот-вот готовые скатиться слезы. И что-то дрогнуло у него в груди, тугим комком подкатило к горлу; сердце переполнилось неистраченной нежностью, он шагнул к ней, и все, что накопилось за минувшие три месяца, за минувшие десять лет, вложил в объятие, выдохнул шепотом:
– Люблю…
Она жалась к нему, как жмутся дети, когда им страшно и одиноко, вытирала украдкой глаза, хлюпала носом. Он ласкал ее, как мог успокаивал.
И, если бы его сейчас спросили, что такое счастье, он бы ответил, ничуть не лукавя: счастье – это стоять вот так в тени под липой и чувствовать, как, вздрагивая, успокаивается в твоих объятиях любимая женщина.
Ему сейчас казалось, что не было никакой трехмесячной разлуки, никаких десяти лет, что они стоят не у полковой проходной, а у бетонной чаши фонтана на вокзале областного центра, откуда он уезжал служить. И все, что вклинилось между ними за минувшие годы, это тяжелый, кошмарный сон.
– Федя-Федюшкин, Федя-Федюшкин, – шептала Нина, прижимаясь виском к его плечу. – Если бы ты только знал, как трудно и хорошо мне. Если бы только знал. Я измучилась до предела. И хоть бы с кем посоветоваться. Уже ничего не соображаю, не вижу, что делается вокруг меня. Одно в голове – как быть?
– Разберемся, – заверил он твердо. – Сядем рядком, поговорим ладком. Во всем разберемся. У нас будет достаточно времени.
– Я должна сегодня уехать.
– Никуда я тебя не отпущу, ты останешься у меня. Нельзя нам больше расставаться, слышишь, Нина?


