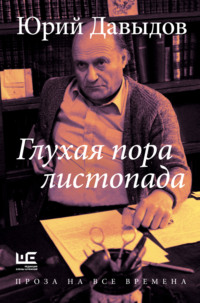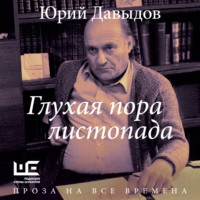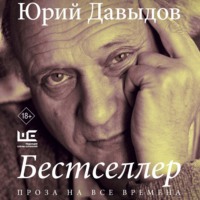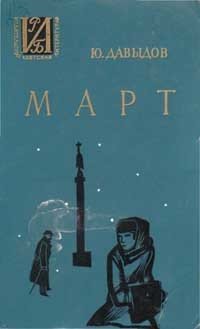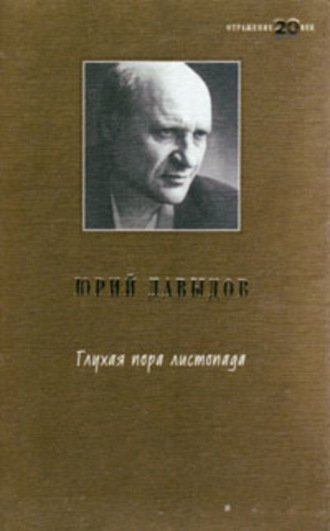 полная версия
полная версияГлухая пора листопада
Потом он просит свидания с Лопатиным, ему необходимо видеть Лопатина. А Якубович потирает кончиками пальцев виски. Да, вот так, сидя, потираешь ты виски. Тебе не в чем винить Колю Блинова, но его уже подозревают, а ты не вступаешься, не защищаешь, хотя веришь в него и веришь ему. Партионные интересы превыше всего, ты опасаешься ошибки. Хотя знаешь, что нет измены, а есть чудовищное стечение обстоятельств. Но ты молчишь, для тебя партионные интересы превыше личных, как будто бы не личности составляют партию, а что-то иное, отвлеченность некая.
«Где угодно, несколько минут, – повторяет Блинов. – Необходимо, поймите…» Нет, они с Флеровым не открывают, где Лопатин, они просят Блинова подождать. Всего лишь недельку, другую подождать. И Блинов уходит. Не оборачиваясь. И вдруг веет холодом, будто двери настежь.
Тогда Блинов ушел. Нынче он не уйдет. Куда ему идти? К перилам Литейного моста? Он не уйдет в такую ночь, когда ни ветра, ни звезд, когда город словно упакован в ветошь.
Память реставрирует то, что нужно, хотя не всегда нужно то, что она реставрирует. Якубовичу все чаще являлся Коля Блинов… «Твоих друзей, даже нелегальных, арестовывают, а ты, легальный, гуляешь на воле». Вслух это не произнесено. Но уже страшно уловить осуждающий шелест чьих-то губ. И уже затылком, едва удерживая ровность шага, ощущаешь чей-то настороженный взгляд. Вот она, судьба Коли Блинова.
Якубович легко делился с товарищем последним полтинником, а Блинова не оделил толикой душевного тепла. «Партионные интересы превыше всего»? Нет, Блинов оказался превыше всего. Самоубийство – слабость, капитуляция? Ах, как простенько! На таких «откровениях» почивают, как на пуховиках. Дегаев всех забрызгал грязью. Блинов не стал отирать с себя эту грязь. «Я ни при чем, я обманут, как все…» Партия не была ему дивизией, войском, где подчиненный не в ответе за начальство. Блинов был слишком честен для того, чтобы остаться с опущенной головой. И Блинов бросился вниз головой.
Якубович не бросился. Говорил себе, что он действует. И верно, Якубович ездил в Киев, видел Мишу и Прасковью Шебалиных, тех, что раньше держали типографию у Кукушкиного моста. (Нет уже ни Миши, ни Прасковьи – тоже арестованы. А они-то, Якубович и Шебалин, полагали, что Судейкин унес в могилу дегаевские доносы.) В Киеве толковал Якубович с радикалами, был вхож в подполье. Потом – москвичи. Решено было рвать с заграничниками, поднимать незапятнанное знамя «Молодой партии»… Якубович действовал. Сколько было сил, столько и отдавал. Да много ль сил? Только Роза, его невеста, только Роза Франк знала, много ли сил…
Как и прежде, Якубович чуть не всякий день заглядывал на Пески к Розе. Он прозвал ее «Сорокой». Оказалось – и это подтвердил Стародворский, – Розу еще в гимназии так дразнили. «Веселая она, – говорил Стародворский, – скачет, как сорока…»
Якубович и себе придумал псевдоним – Роза жила на Песках, и Якубович пошучивал: «Мой псевдоним – Песковский». Она улыбалась: «Ты – мой храм на Песках». Иногда горевала: «У нас с тобою все на песке».
Роза, «Сорока» – худенькие руки, тяжелая коса. Он говорил Розе: «Понимаешь ли», как говорят лишь тому, кто, конечно, понимает, все понимает.
– Понимаешь ли, он даже не догадывается, как он прав: полковой священник… Ах, как это метко. Роза! Флеров прав: я не боец. По складу характера не боец. Флеров, Блинов был, Лопатин – воины. Я испытываю почтительный страх, преклоняюсь. А себя… себя, Розочка, презираю. Нет, ты уж не утешай, пожалуйста. Я не ломаюсь, я правду, тебе одной. Нет у меня способности всецело отдаться своим убеждениям. Ко мне обращаются, чего-то от меня ждут, я что-то советую, куда-то еду, ну и получается вроде бы революционное действие. А если в глубину, так ведь это же не я отдаюсь, а меня берут. Бросился в реку, но не плыву – отдаюсь течению. Это-то и есть неспособность всецело служить идеалам… Мне порой кажется, я поднимаюсь, поднимаюсь, поднимаюсь… Ты вообрази: огромная страшная гора, а под ногами, у самых ног – обрывы, пропасти. Люди срываются, исчезают навсегда, они кого-то любили, у них были домашние привязанности, какие-то мечты были, они срываются, гибнут, жертвуют личной жизнью. И вот я… Я тоже на такую гору взбираюсь. Я не раскаиваюсь, не сверну, нет. Винить некого. Разве что несчастное время, в которое мы живем. Но суть-то в том, Розочка, что вот я, Петр Якубович, иду, карабкаюсь, а все ж будто бы против своей воли. Нет, не боец, прав Флеров. Я бы… Вот я не могу, не смею сравниться с Тихомировым, гигант, не мне чета, но ведь могу же, смею сказать, как он: избавьте меня от всяких обязательств практики, служить буду, чем умею – пером… Что? Да-да, он так сказал, просил Лопатина объявить это нам, в России… Вот и я бы служил пером. Так нет же, как-то так оборачивается, что меня принимают за какую-то руководящую фигуру. Тут и мое несчастье, тут и вообще несчастье, что такому, как я, выпадает практика. Я не говорю, что теоретик, но словом, пером сделал бы больше, лучше… А теперь – Рубикон, мой Рубикон, понимаешь? Ты не волнуйся, Роза… Рубикон – мой, а раз мой, то я и должен с тобою решить.
Решить следовало поворотное и бесповоротное. Такое важное, что не касалось, а прямиком ударяло в Якубовича и Розу – с их прошлым, их будущим…
Поговаривали, что племянник Судейкина будто б оправился и занялся дешифровкой дядюшкиных заметок. Слух был ложный. Департамент располагал тетрадями Дегаева, они в расшифровке не нуждались; а Судейкин не разводил канцелярщины, опирался на собственную память. Но слух будоражил подполье.
Грубо если, то слух этот был, пожалуй, на руку Якубовичу: он получал предлог для перехода в нелегалы. Он мог стать нелегальным, не опасаясь, что сам же первым сочтет свой переход как бы оправданием перед теми (покамест воображаемыми) людьми, которые подозревали (могли подозревать) его в самом мерзком, в чем только можно заподозрить порядочного человека.
Однако нелегал ведь это… Якубович и Роза отчетливо представляли, что такое нелегал. Ни минуты твердой, зыбкость как на кочках, забудь об уютах и буднях, о дорогих, подчас неуловимых мелочах, согревающих частную жизнь. Нелегал сжигает корабли. Он меняет походку. У него нет крыши. Мирные огни не ему светят. Он обложен со всех сторон, на любой тропе – засада иль волчья яма. И уж если ты не способен к практике подполья, какой из тебя нелегал… Все это отчетливо вообразилось Розе и Якубовичу.
– Розочка, пойми: только так я продержусь до осени. А ты летом в Каменец-Подольск… Только так я до осени… Пойми.
До осени! Почему все так, а не иначе? Нет, иначе быть не могло. Но почему ж до осени? А до осени лишь месяцы… И, проклиная осень, такую близкую уже осень, хотя на дворе еще весна, Роза мысленно смирялась с его уходом в нелегалы…
Проснулись они поздно, совершенно счастливыми, будто вчерашнего не было. Проснулись и глядели в окно. Ночью или на заре прихлынула весна. День встал большой, просторный, мокрый, блескучий. И Якубович не увидел, а почувствовал, как на глазах у Розы навернулись слезы.
К себе, на Спасскую, Якубович попал уже днем, в обед, нашел записку с приглашением в Публичную библиотеку. Якубович подосадовал: лучше бы скорее повидать Лопатина, сказать о решении, о своем окончательном решении. Но записка намекала на что-то чрезвычайное, безотлагательное, и Якубович отправился на Невский, в библиотеку.
Войдя в подъезд, Якубович уже испытывал то бодрое, приятное состояние, которое неизменно испытывал, наведываясь в библиотеку. Ощущение это как бы начиналось швейцаром. Старые библиотечные служители, как и университетские, отличались от прочих петербургских низших служащих особым умением держаться с завсегдатаями уважительно, но с оттенком некоторого сообщничества, таинственного братства.
Якубович не заглядывал ни в читальную залу, ни в «главную» курительную, рядом с залом. Он шел полутемными коридорами, по веревочным ковровым дорожкам, глушившим шаги, шел мимо высоких, до потолка, запертых книжных шкафов и, как всегда, ощущал уже не только приятную бодрость, но и легкое сожаление об утраченном времени, которое, увы, не довелось отдать этим книгам.
Конспиративные рандеву обычно устраивались в «малой» курительной; она звалась почему-то «турецкой». Единственное окно мутно глядело в дворовый закуток. Курительная всегда была сизой. В углу, на круглой тумбе пылился мраморный бюст какого-то цезаря.
«Малая» курительная представлялась любителям «запретных тем» известной гарантией секретности. Недавно Якубович встречался здесь с университетским коллегой, который заведовал подпольным паспортным бюро. Пока они о чем-то уславливались, в курительной вперемешку с табачным дымом клубился весьма предосудительный и громкий разговор по поводу щедринских «Отечественных записок».
Этот журнал был как отдушина в штольне, как просвет в подземелье. Он ничего не менял в подземелье. Косное оставалось косным, подлое – подлым, циничное – циничным. И все ж ежемесячное появление нумерованной книжки позволяло перевести дыхание, глотнуть свежего воздуха. Судьба «Отечественных записок» как бы сливалась с судьбою читателя-гражданина.
Нынче Якубович пришел, когда ораторы уже разбрелись по кухмистерским Толмазова переулка или одалживались чайком в швейцарской, из «вокзального», богатырского самовара.
В курительной сидели хранитель паспортного бюро и молодой человек, Якубовичу неизвестный. «Паспортист» объяснил: «У него сутки, ссыльный из Дерпта». И, объяснив, исчез.
Незнакомец, изможденный, со строгим, почти аскетическим лицом, назвался Владимиром Переляевым. Имя ничего не сказало Якубовичу. Переляев это приметил и как будто этому обрадовался. (Он и вправду обрадовался: покойный Блинов сдержал слово – не открыл питерским своего давнего приятеля.)
В Дерпте у Переляева поныне хранилась типография. Готовая к работе, как к бою, она оставалась без работы, как в арсенале. Переляев не рисковал: в питерских и провинциальных провалах он угадывал некую закономерность. Между тем в Дерпте все никло, студенческое общество хирело, погрязая в «радостях низшего разбора». А к Переляеву, он чувствовал, близилась смерть: припадки падучей участились. Он не одолел страх смерти, но умереть «непроизводительно» казалось ему хуже смерти.
Убийство Судейкина, слух о разоблачении Дегаева, потом весть о «молодых» – все это толкнуло Переляева на поездку в Питер. Якубовича он отыскал потому, что Якубовичем восторгался Блинов.
Увидевшись с Якубовичем, Переляев, не теряя времени, взял быка за рога. «Бык» тотчас, без споров принял все условия, хотя они могли показаться очень и очень жесткими.
Но Якубович принял бы и не такие. Лишь бы возродилась газета! Лишь бы напечатать десятый номер «Народной воли»! Два года, подумать только, два года как оборвалось издание… Правда, Якубович проектировал сборник. Материалы копились, но материального недоставало – ни станка, ни литер. А главное – заколдованность Петербурга: чуть что, и прахом… А тут, у этого сумрачного, изможденного ссыльного, у этого поднадзорного дерптского студента все, все готово! И городок в сторонке, и от столицы близехонько. Ликуй, лучшего не сыщешь, не придумаешь!
Якубович принял условия: никто, кроме двух-трех вернейших из верных, не должен знать, что в Дерпте типография; технику осуществляет он, Переляев; денежная и прочая помощь – за Питером; для связи командируется один человек, не больше; до напечатания номера – никаких разъездов «туды-сюды»… Господи, какие возражения? Якубович лишь спросил, можно ли доверить тайну одному из заграничников.
– Нет! – отрезал Переляев.
Якубович, помешкав, сказал, что этот заграничник уже не за границей.
– Извольте назвать.
Якубович, опять не без колебаний, ответил, что у них, «молодых», немало разногласий с приезжим.
– Так на кой дьявол он сдался?
Якубович, помолчав, объявил, что это…
– О-о-о, – уважительно протянул Переляев.
Они расстались, обменявшись паролями.
Снова длинные полутемные коридоры, высокие, до потолка, шкафы с книгами. Но уже нет сожаления об утраченном времени, уже бодрость, не библиотекой навеянная. Снова вестибюль, гардеробная, швейцар, подающий пальто и шляпу. Но Якубович уже не замечает швейцара, не слышит, как тот журит: «А редко, сударь, навещать стали, ре-е-едко».
И лишь на улице, среди прохожих, в громе конок, Якубович оторопел: не сболтнул ли на радостях лишнего, а? Конечно, Переляев – по хватке видать – парень старых конспиративных традиций. Но открывать лопатинский ларчик никто Якубовичу не поручал. Не открыл в свое время Блинову, а сейчас вот и открыл, а потому… Якубович сознавал почему!
Еще там, в курительной, он уже мысленно витал над Дерптом: вот оно, желанное! Пусть корректуры, пусть редактирование. Пусть! Зато перо, перо… Однако не только перо. Он уедет из Петербурга. Оборвет все нити, устранится от главного русла движения. Он изолируется в Дерпте. И тогда все убедятся в том, в чем ему, Якубовичу, так нужно всех убедить и в чем он не может, не унижаясь, убеждать. С пользой для партии он укроется в Дерпте, и тогда уж никто не посмеет даже подумать: «Нелегальных арестовывают, а ты, легальный, на воле».
Якубович наивно забывал «пустячное» обстоятельство: если уж тебя подозревают в самом ужасном, то никакое отсутствие не во благо. Забывая об этом, Якубович спешил к Лопатину. Лишь Герману Александровичу он выскажет все, как некогда хотел высказать Блинов.
Якубович долго искал Лопатина. День, недавно такой молодецкий, померк, угрюмо задушенный тучами. Зима в тот год выдалась неуступчивая. Сеялся снег.
Уже затемно Якубович перехватил Лопатина на углу Шведского переулка, знаком позвал за собою, Лопатин повиновался, а как вышли к каналу, дернул Якубовича за рукав:
– Что стряслось?
– Ничего, ничего, сейчас, – поспешно отвечал Якубович, увлекая Лопатина по набережной.
– А ежели ничего, так чего мерзнуть? Идемте ко мне чай пить.
Якубович запротестовал: Герман Александрович забывает конспирацию. Лопатин отмахнулся, не догадываясь, что его оппонент совсем недавно, в курительной, явил редкостную неконспиративность.
На другой стороне канала темнела каменная стена Михайловского сада. Черные деревья сплотились в общую глухую черноту. Снег повалил гуще, сухими хлопьями.
Якубович был возбужден. Якубович высказался стремительно. А Герман Александрович будто и не расслышал ни о «подозрениях на подозрения», ни о «непригодности к практическому», ни о «желании изолироваться», а расслышал только про дерптскую типографию.
– Гер-р-рой, удр-р-ружил, чер-р-рт, какая пр-р-роница-тельность! Сбер-р-рег! – рокотал Лопатин.
Это все адресовалось Переляеву.
– Стойте! – И Лопатин остановился. – Да знаете ли, кто он? Мне ж о нем Блинов… Клянусь, тот самый. Блинов, именно Блинов про дерптского приятеля говорил, хоть и безымянно, но говорил. Тогда это было ему очень важно, Петр Филиппович.
Якубович при имени Блинова тотчас подумал, что сейчас похож на Блинова. Однако, нет, не похож… Он-то вот уже и сказался Лопатину, а Блинову не дали. «И виною – я, я, я!» – горько простучало Якубовичу. Горько, но коротко: он съежился, напрягся в ожидании ужасных обвинений – Лопатин не назвал его «Петруччо», а назвал Петром Филипповичем.
– Петр Филиппович, – говорил Лопатин, отпуская локоть Якубовича, – позвольте-ка без дипломатии. Дегаевским ядом мы, верно, все малость отравились. Так вот мне, грешным делом, мелькнуло эдакое. Но лишь мелькнуло, потому что вы и эдакое – абсолютно! Абсолютно несовместно.
Лопатин говорил то, что Якубович жаждал услышать. Но говорил, словно бы мешкая, словно бы запинаясь, и Якубович все еще был в напряжении.
– Не обижайтесь, – продолжал Лопатин, – выслушайте холодно. Ни на йоту не сомневаясь в Петре Филипповиче Якубовиче, я сомневаюсь… – Лопатин повел подбородком в сторону, туда, за Екатерининский канал, за дворцовый Михайловский сад. – Согласитесь, этот мерзавец непременно донес на вас, а «там», по известной методе, решили повременить, не трогать Петра Филипповича Якубовича. Якубович – человек заметный, публика тянется. Огонь горит ясный, ну и летят, слетаются. А ведь и сам по себе огонь, и те, кто на него слетается, далеконько видны. Как полагаете? Ежели без эмоций, трезво?
Якубович растерялся. Потом криво усмехнулся:
– Выходит, я… Стало быть, по-вашему, я подсадная утка?
Лопатин развел руками.
– Ну-с, это… это несколько… Впрочем, чем грубее, тем точнее. А что поделаешь, Петруччо? – И словно затем, чтобы не длить его унижение, быстро сказал: – И потому-то ваша поездка в Дерпт оказалась бы полезной втройне: избавите некоторых товарищей от прицельных выстрелов нынешних Судейкиных, это раз; со своего следа гончих собьете, два; и третье, самое главное – газета. Верно? Ведь верно ж, Петруччо?
– Да, пожалуй, – промямлил Якубович.
Он бы теперь, кажется, и подозрения на самое ужасное принял, лишь бы не быть «подсадной уткой». Желанное устранение от главного русла, желанная поездка в Дерпт, желанное служение пером – все захлестнуло чувством унижения, обиды, чем-то неуловимо отвратительным. И даже, черт побери, нелепо-смешным: «подсадная утка…»
А Лопатин, снова взяв об руку Петруччо, уже рассуждал, что десятый номер «Народной воли» должен выйти в свет, должен свидетельствовать единство, что раскол с Исполнительным комитетом недопустим, что надо скорее кончать неразбериху да и грянуть всей артелью.
Якубович слушал плохо.
3
Знака безопасности не было. Этого следовало ждать каждый день. И не столбенеть посреди Пушкинской.
Знака безопасности – штора наполовину окна, зажженная лампа на подоконнике, чуть приоткрытая форточка – не было. Вновь обретя способность двигаться, Флеров несколько раз прошелся по Пушкинской, медлил напротив дома номер двадцать, пристально взглядывая на одно из окон, в третьем этаже. Ни шторы, ни лампы. И форточка закрыта.
Флеров не знал, что в этот час в здании у Цепного моста чиновник департамента государственной полиции выводит красиво и четко: «Дело о Рабочей группе партии «Народная воля». Этого Флеров не знал. Зато он, закоперщик упомянутой группы, знал, что участие в ней предусмотрено статьей 250-й «Уложения о наказаниях»: годы и годы каторги.
Каторги Флеров не то чтобы не страшился, но принимал, как каждый русский принимает русскую пословицу о суме и тюрьме. И другие участники Рабочей группы тоже ее принимали, студенты да курсистки, собиравшиеся в квартире на Пушкинской.
Уже редчал прохожий, шум извозчиков возникал словно бы внезапно, из парадной проститутка сигналила папиросой, а Флеров все ходил, ходил, рискуя навлечь внимание дворников.
Флеров думал о тех, кого захватили и увезли либо на Шпалерную, в дом предварительного заключения, либо в штаб корпуса жандармов, либо в крепость, на Петербургскую сторону. Он думал о своих товарищах горестно, но вместе и с каким-то неправедным укором. Он почти злился на теперешних арестантов, словно те нарочно сделались арестантами.
Давно и упорно, как тяжесть, тянул Флеров в сторону «рабочего вопроса». Главным в революции считал он пролетария, все хотел посвятить рабочим боевым дружинам, пропаганде на заводских окраинах. Он противился «центральному террору», метанию бомб в царя, великих князей или министров. (Правда, однажды они с Нилом Сизовым надумали прикончить графа Толстого и явились в министерство, но покушение на его сиятельство было делом исключительным.) Флеров иной террор признавал, понятный, как он полагал, народу: фабричный и аграрный – уничтожение зловредного «непосредственного» гнуса.
На Рабочую группу Флеров смотрел как на свое детище. Провал принял как крушение личное. Он слыхал, что Желябов в роковые минуты утешался: «Ничего, люди найдутся». Знал, что освободительное движение неостановимо. Понимал, слыхал, знал. Да только каждому своя доля, свой пай. Попробуй озирать «исторический процесс», когда бредешь разбитый, ко всему безучастный и тебе, право, все равно, где приклонить голову.
Голову он приклонил на Васильевском острове.
Несмотря на поздний час, Греков, ужасно длинный и тощий, сложился аршином над шаткой конторкой. По обыкновению секретарь редакции газеты «Новости» днем не управился и теперь, дома, сопя и хмыкая, расправлялся с гранками, яростно орудовал толстым цветным карандашом и внушительными, как у портных, ножницами. И конечно, впуская приятеля, продекламировал эпиграмму, известную всем журналистам:
Здесь над статьями совершаютВдвойне убийственный обряд:Как православных, их крестятИ, как евреев, обрезают.Но Флеров нецеремонно буркнул:
– До утра можно?
– Можно, бирюк.
Греков ничуть не удивился: Флеров в последнее время часто бывал не в духе. Греков принес чаю, итальянской колбасы, ситник. Флеров ни к чему не притронулся, растянулся на клеенчатом диване и угрюмо уставился в потолок.
Секретарь редакции опять зашуршал гранками и опять взялся за карандаш и ножницы, да только дело не спорилось. Уж очень не терпелось Грекову рассказать и про письмо из Парижа, и про весьма импозантного господина, которому он, Греков, вручил нынче письма, доставленные оказией.
Греков принадлежал к тем лицам, которых в полицейских сферах определяют «посредниками», а в нелегальных – «сочувствующими»; самого себя называл он «дуплом», «почтовым ящиком».
Редакция столичной либеральной газеты получала корреспонденцию «со всех концов света»; Грекову нетрудно было, помимо прямых обязанностей, исполнять еще и дополнительные. Без всякого, разумеется, вознаграждения. Вознаграждало сознание причастности к «революции».
Как ни подмывало журналиста кое-что выложить, он продолжал сопеть и хмыкать над гранками. Греков робел Флерова, хотя (или поэтому) держался запанибрата. Ладно, думал, подожду, когда оттает.
Но вот Флеров медленно спустил ноги с дивана, нехотя потянулся за булкой и колбасой, медленно, как давясь, стал ужинать.
– Ну? – глухо позвал он. – Я уж вижу. Что у тебя?
Греков тотчас оседлал стул, свесил длинные руки через спинку. Ах, как у Хлестакова: «Суп прямо из Парижа», – Тихомиров благодарит за приглашение к сотрудничеству (конечно, под вымышленной фамилией). К сотрудничеству, как он пишет, с точки зрения публициста, ради хлеба насущного, для заработка.
– С деньгами у них не густо, – равнодушно отметил Флеров. – Да где же прокормить ораву дармоедов.
– Дармоедов?
– А кто ж они, эти эмигранты?
– Так уж все и дармоеды?
– Не все – многие. Да и вообще эмиграция – трусость. А грянула бы революция, так они бы тут как тут: подавайте, господа, министерские кресла.
– По-твоему, лучше тонуть вместе с кораблем?
– Не лучше – честнее. Ну будет. Что еще?
– Прислал ключ для шифрования. Говорит, сам собирался в Россию, но послан другой.
– Ишь ты, «в поход собрался», – проворчал Флеров.
– Ты нынче на весь мир зол.
– На весь, – мрачно согласился Флеров. – Все?
– О не-е-ет, – протянул Греков с видом хитреца, от которого ничего не укроется. – Скажи-ка, кого это «другого» послали?
– Тебе зачем?
– Не хочешь, не надо. Сам скажу.
Флеров перестал есть.
– Ну-ка, ну-ка?
– Да вот этого самого Алексея Константиновича.
– Гм… Очень может быть.
– «Может быть»? Ха-ха… Он был у меня, в редакции. Весьма представительный господин. Так и веет силой, решительностью, умом. Взгляда достаточно, чтобы…
– Пошел строчить!
Греков улыбался.
– И звать его не божьим человеком Алексеем, не Алексеем Константиновичем.
– Да-с? – насторожился Флеров.
– Арию помнишь? «Уж полночь близится…» – Греков перестал улыбаться. – Слушай, Флеров, я, право, не набиваюсь. Но если из худо заклеенного конверта выныривает листок и ты, подбирая его, ненароком читаешь: «Милый Герман», а потом приходит представительный господин, от которого веет решительностью, энергией, умом, приходит человек, о котором ты много слышал, имя которого гремит, и, оставшись с тобою наедине, получает корреспонденцию из Парижа, то…
– Довольно. – Флеров помолчал. – Прислали принять бразды.
– Разве Лопатин не достоин?
Флеров не отозвался. Он думал о Лопатине. Лопатин смеялся над фабричным и аграрным террором: «Анархизм, ерунда…» Флерову, того не сознавая, хотелось как-то сорвать свой гнев, стряхнуть свое поражение, провал, гибель своей группы.
– Анархизм?! Ерунда?! – произнес он громко и злобно. – Черт их всех раздери! – Он услышал свой громкий голос. Огляделся, будто недоумевая. И Грекову – как приказом: – Занавес с окна долой! Проспать боюсь…
Арест на Пушкинской звучал грозным предупреждением. А Флеров и прежде чуял слежку. Он перебрался в Лисий Нос. Там, в дачной, с осени заглохшей местности гудели высокие тонкие сосны. В тусклых торосах залива, в дальних дымах Кронштадта тоже было что-то спокойное и долгое. Но почти каждый день Флеров наезжал в Питер.
Ночью у Грекова, наполняя пепельницу пеплом и окурками, Флеров думал о Москве, о московских народовольцах, о том, что в «сердце России» можно сколотить новую Рабочую группу, как в Дерпте взбодрить газету… Все жарче воодушевляясь Москвою, Флеров вспомнил и бывшего хозяина динамитной мастерской, вспомнил, что прежде, до Питера, Сизов слесарничал в Москве. Стало быть, там у Нила «корни», и это очень хорошо, потому что «корни», конечно, в толще мастеровщины…