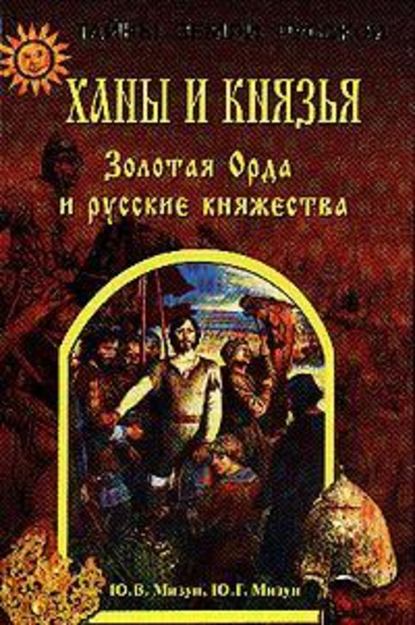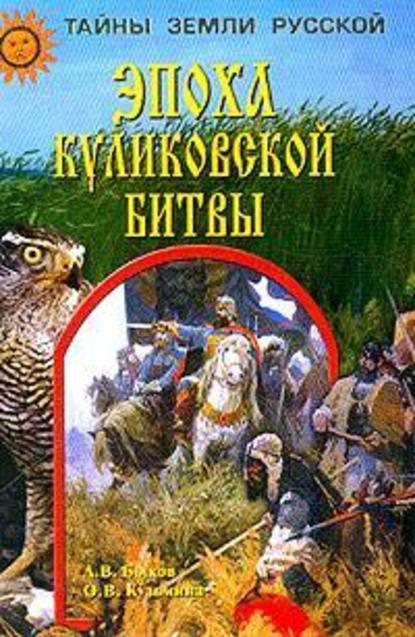полная версия
полная версияПоследние Рюриковичи и закат Московской Руси
Крымский след
Но если мы согласимся с тем, что кружок еретиков появился в Москве до появления там Алексея и Дениса и независимо от них, то нам необходимо выяснить, каким образом «жидовская» ересь проникла в Кремль. Для этого от церковных дел обратимся к внешней политике. Иван III и его дипломаты усердно и умело налаживали сношения с балканскими государствами и Крымским ханством. В результате образовалась антиказимировская коалиция Русь – Венгрия – Молдова – Крым. Наиболее могущественным и последовательным союзником Москвы был хан Менгли-Гирей, с которым русские соединялись в борьбе против еще одного общего недруга – остатков Золотой Орды. Неудивительно, что в политике московского двора на южном направлении ключевое значение имели отношения с Бахчисараем.
Первые шаги по установлению союза с Крымом были предприняты Иваном III в 1472-73 гг. через кафинца Хозию Кокоса, тесно связанного с Менгли-Гиреем и независимым княжеством Феодоро[155].
Полномочия Кокоса не ограничивались крымскими делами. Через Крым русские послы направлялись на Балканы, например посольство Штибора в Венгрию. Преимущественно через Крым осуществлялись сношения с Молдавией. Таким образом, крымский посланник вовлекался в обширный круг забот русской дипломатии. К.В. Базилевич полагает, что Иван III очень дорожил услугами Хозии Кокоса, посылал ему «поминки» и «жалованье» и в переговорах с ним соблюдал почти те же формы, как и в сношениях с владетельными лицами.
Не случайно в роли правительственного агента выступил кафинский купец. В конце XV века генуэзская колония Кафа (Феодосия) с населением 70 тысяч жителей являлась одним из крупнейших городов и торговых центров Восточной и Центральной Европы, куда стекались торговцы и товары из множества государств, в том числе из русских княжеств[156]. Россия занимала значительное место в товарообороте Кафы. Когда весной 1492 года Иван III не отпустил торговых людей в Крым, кафинский паша исчислил убыток в 60 тысяч алтын[157]. Особенно широкий размах «сурожская» торговля Москвы с Кафой и через Кафу приобрела именно во второй половине XV века[158]. Кроме того, по замечанию К. В. Базилевича, «Крым являлся очень удобным местом для собирания политических новостей»[159]. Именно в Кафе сметливый человек получал редкую возможность завязать обширные связи, получить самую разнообразную информацию, не будучи заподозренным в чем-то предосудительном.
Другим московским представителем в Крыму назывался известный нам Схария – как и Кокос, уроженец Кафы, купец, иудей – или считавшийся таковьм в глазах православных христиан. Схария не только имел большие международные связи, но и был отменно подготовлен для дипломатической деятельности: знал итальянский, черкесский, русский, латинский (на латыни написана его сохранившаяся грамота Иоанну III), татарский, может быть, польский или литовский и еврейский (богослужебный) языки[160].
Покровитель Схарии Михаил Олелькович, вернувшись из Новгорода в Киев, не смог осесть в родовом гнезде. Несмотря на просьбы киевлян, король Казимир повелел ему отправиться в имение Копыль под Слуцком – современная Минская область Белоруссии. Скорее всего деятельного Схарию не привлекало деревенское затворничество, и он вернулся в Крым. Но штурм Кафы турецкими войсками в 1475 году и изгнание с ханского престола Менгли-Гирея могли заставить его покинуть на время благословенный полуостров и вновь оказаться в литовских владениях.
В 1484 году Федор Курицын встретился со Схарией при дворе Менгли-Гирея, вернувшего себе власть на рубеже 1478/1479 годов. Но была ли это первая встреча московского дипломата и караимского ученого? Их пути могли пересечься в Киеве, через который обычно следовали русские послы, где Схария был известен и в семье Олельковичей, и при дворе господаря Стефана, о чем мы расскажем чуть позже. Курицын с начала 60-х годов неоднократно бывал на Балканах, где знакомился со многими примечательными людьми, в числе которых валашский господарь Влад III Цепеш Дракула. (Позднее Курицын составит «Повесть о Дракуле» – первое литературное произведение в ряду обширной «дракулиады».) Жадный до знаний и свежих интеллектуальных впечатлений, дипломат имел возможность и желание встретиться с таким известным в тех краях ученым, к числу которых, безусловно, относился Схария. Он и познакомил Федора Васильевича со своими взглядами, а тот уже стал основателем целого кружка в Москве. Сам выбор Кокоса и Схарии на роль представителей русского правительства, по всей видимости, произошел при участии Федора Курицына.
Помимо упоминавшихся причин внешнеполитического свойства, побудивших великого князя и молдавского господаря породниться, существовали иные обстоятельства, способствовавшие браку Ивана Молодого и Елены Стефановны. На наш взгляд, с большим основанием можно предположить связь между двумя известными фактами – основанием новгородского кружка приближенным Михаила Олельковича и покровительством, оказанным последователям Схарии племянницей казненного князя, нежели отрицать существование таковой, предпочитая видеть в этом случайное совпадение.
Первоначально в качестве невесты Ивана Молодого рассматривалась дочь мангупского князя Исаака, властителя княжества Феодоро, располагавшегося на юго-западе Крыма. Именно Менгли-Гурей «рекомендовал» Исааку выступить с подобной инициативой, а посредником в деле устройства этого брака выступил Хозия Кокос[161]. Близость Кокоса к крымскому хану и двору мангупских князей позволяет предположить, что Кокос скоре являлся не техническим посредником, а одним из инициаторов заключения этого брачного союза, который не состоялся вследствие османского нашествия на Крым и падения Мангупа.
После этого Ивану III поступило предложение от господаря Стефана выдать за Ивана Молодого Елену, его дочь от брака с Марией Мангупской. Снова в жены Ивану Молодому предлагают княжну с мангупскими корнями, и снова этому браку содействует хан Менгли-Гирей[162]. Если добавить к вышесказанному, что вся переписка по поводу сватовства шла к Елене через Крым (здесь же останавливались послы на пути ко двору Стефана), становится ясно, что матримониальные «маневры» в треугольнике Крым – Молдова – Москва связаны между собой, и связующим звеном выступают крымские агенты московского правительства, и в том числе Схария, который, как мы полагаем, был принят при дворе Стефана Великого[163].
Заметим, что в начале 60-х Стефан был ранен стрелой при осаде крепости Килия. Шли годы и даже десятилетия, а рана не заживала. Все это время выписанным из Италии и Германии врачам по странному стечению обстоятельств не удавалось попасть ко двору господаря[164]. В подобных обстоятельствах появление при дворе Стефана личного лекаря-астролога его шурина Михаила Олельковича видится вполне вероятным. Но злополучное ранение в конце концов стало причиной смерти Стефана, значит, медицинское вмешательство Схарии (если оно имело место быть) окончилось безрезультатно, что и вызвало гнев государя. В ту эпоху отношения между власть имущими и питомцами Эскулапа складывались весьма непросто, в чем мы еще получим возможность убедиться. В одном из писем к Иоанну III ученый караим жаловался на то, что волошский воевода напал на него в пути, мучил «только что не до конца» и ограбил начисто[165].
Этот эпизод указывает не только на неприязненные отношения господаря к Схарии, но и на факт знакомства. Стефан не грабил путников на больших дорогах, в данном случае враждебные действия направлены конкретно против Схарии. Но если Схария был принят при дворе Стефана, то его дочь Елена еще до прибытия на Русь имела возможность познакомиться с ученым караимом и увлечься его идеями, либо попасть под влияние схарианства через завербованных караимом неофитов из числа придворных господаря. Не это ли обстоятельство повлияло на выбор невесты наследника, сделанный Иваном опять же не без влияния Курицына или его соратников? Рассказ о «совращении» Елены выглядит таким же лукавством, как и «обольщение» Ивана в Новгороде и Курицына в Москве.
Именно Елена могла выхлопотать у великого государя письменное приглашение Схарии пожаловать в Москву, которое было ему передано с очередным посольством к крымскому ханству в 1484 году. Курицына не только не было в Москве, долгое время Федор Васильевич не подавал о себе никаких вестей, так что длительное отсутствие дьяка вызвало беспокойство в Москве, и великому князю пришлось послать человека в Венгрию узнать о его судьбе[166].
Приглашение было повторено в 1487 году – очевидно, оно было сделано после возвращения Курицына в Москву. Великий князь при этом не скупился на посулы: «…а как будешь у нас, ож даст бог, наше жалованье к собе увидишь. А похочешь нам служити, и мы тебя жаловати хотим, а не похочешь у нас быти, а всхочешь опять в свою землю поехати, и мы тебя отпустим добровольно, не удержав»[167]. Вероятно, речь шла о службе в качестве придворного врача и астролога. Несмотря на меры, предпринятые послом в Крыму Дмитрием Шеиным, вплоть до ожидавшего на границе специального охранного отряда[168], Схария в конце концов отказался перебраться в Москву, ссылаясь на обремененность семьей. Возможно, Схария рассудил, что подобный визит окажется небезопасным, и любезным приглашением не воспользовался.

Осторожность оказалась нелишней. В том же 1487 году новгородский епископ Геннадий Гонзов обнаружил очаг ереси в среде местного духовенства, однако в Москве его тревожным сообщениям, казалось, придавали мало внимания. Архиепископ Геннадий, сообщив о ереси в Москву, в том же 1487 г. написал послание епископу Сарскому и По-донскому владыке Прохору, в котором призывал его: «Споборствуяй по Христе Бозе и Пречистые Его Матере честнаго Ея образа в помощь христоименитому православному христианину на еже хулою возносящихся на Господа нашего Иисуса Христа и обезчестивших образ Пречистыя Владычица нашея Богородица новгородскых еретиков жидовская мудръствующих»[169]. Дабы преодолеть московский саботаж и своеобразный заговор молчания, Геннадий принялся в посланиях своим коллегам – епархиальным владыкам – Нифонту Суздальскому, Филофею Пермскому, Прохору Сарскому и Иосафу Ростовскому – горячо обличать пагубную ересь и преступное бездействие московских духовных и светских властей.
В это же время, а именно в 1488 году, появляется «Послание на жидов и на еретики» основателя Сенной пустыни на Ладоге инока Саввы, которое представляло собой «компиляцию из противоиудейских разделов Палеи Толковой и «Слова о законе и благодати» киевского митрополита Илариона»[170]. Любопытно, что произведение адресовано боярину Дмитрию Васильевичу Шеину, который отвечал за несостоявшуюся поездку Схарии в Москву. Очевидно, Савва знал об этом обстоятельстве, что обусловило выбор адресата[171].
Похоже, что Савве были известны не только ужасные подробности злодеяний новгородской секты (Савва подчинялся новгородской епархии), знал он и о покровительстве еретикам со стороны супруги наследника. Огорченный этими известиями (Иван Молодой помогал подвижнику в устроении пустыни) Савва поспешил предостеречь неблагочестивых государей, предавших отеческую веру: «Аще бо царь, или князь, или богат, или силный, аще и мнится, гордяся величеством маловременным сим, а не поклоняется Богу нашему Спасу Господу Исусу Христу, написанному образу Его на иконе и не причащается Тела и Крови Христовы, – той воистину раб есть и проклят»[172].
Настойчивость новгородского владыки и гневные отзывы подвижников возымели наконец действие: в 1488 году был собран церковный собор для разбора дела трех еретиков, которые сбежали от преследования Геннадия в Москву. Великий князь повелел бить их кнутом, сослать обратно в Новгород и там разобраться с ними на местном соборе. По сути, Геннадию указали на то, что он сам должен бороться с местными «нестроениями». Епископа удручил столь скромный результат его усердных трудов, тем более что вину за неуспех в борьбе с ересью ловкие московские интриганы переложили на самого Геннадия.
Метаморфозы владыки Геннадия
Геннадий Гонзов сообщал Ростовскому епископу Иосафу, что лично слышал от видного еретика Алексея о том, что при составлении новой пасхалии церковным иерархам придется обратиться к ним как к знатокам астрономии: «Ино и яз слыхал у Алексея: «и мы де тогда будем надобны»[173]. Возникает вопрос: где, собственно, имел Геннадий столь доверительную беседу с премерзким еретиком? Вероятнее всего, в Москве, в бытность последнего протопопом Успенского собора, а Геннадия – настоятелем Чудова монастыря, располагавшегося между Спасской башней и кремлевской Соборной площадью. С берегов Волхова владыка также сообщал о том, как другой придворный еретик иерей Денис во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Выдумал или нет Геннадий сценку сатанинского перфоманса, но явно не пересказывал корреспондентам московские слухи, а сообщал случаи, ему лично известные.
А как иначе: на протяжении четырех лет протопопы-вероотступники и будущий руководитель новгородской епархии трудились на духовной ниве по соседству – на расстоянии пары сотен шагов, отделявших Чудов от Успенского и Архангельского храмов. (Протопопы, как мы помним, появились в Москве в начале 1480 года, а чудовским архимандритом Геннадий стал не позже февраля 1477 года, – когда уже сложился московский кружок вольнодумцев)[174]. Заметим, что в этот период великий князь, благоволивший еретикам, благоволил и Геннадию. В Москве злословили, что Геннадий щедро заплатил великому князю за назначение. Похоже, что силы, противостоящие Ивану III, с помощью подобных слухов пытались опорочить и самого государя, и его фаворита. Собственно, расположение государя и позволило Гон-зову занять в декабре 1484 года архиерейскую кафедру. Это, разумеется, не означает, что все любимцы Ивана Васильевича были близкими приятелями или единомышленниками, однако трудно поверить, что кремлевский обитатель Геннадий не знал того, чего не особенно скрывали при дворе – увлечения высокопоставленных сановников некими соблазнительными идеями, а также не ведал об экстравагантных выходках бывших новгородских иереев.
Сам же Геннадий и его соумышленники, разумеется, представляли дело таким образом, что владыка ни о чем предосудительном не ведал, а, обнаружив кривоверие, яростно ополчились на вероотступников. Вот как живописует архиерейские подвиги Иосиф Санин: «В лето же 6993 (1484) поставлен бысть архиепископ Великому Новугороду и Пьскову священный Генадие, и положен бысть яко светилник на свещнице Божиим судом. И яко лев пущен бысть на злодейственыа еретики, устреми бо ся, яко от чаща Божественых Писаний, и яко от высоких и красных гор пророческых и апостольскых учений, уже ногты своими растръзая тех скверныя утробы, напившаяся яда жидовъскаго, зубы же своими съкрушая и растерзал и о камень разбивая»[175].
Однако динамичная картина, нарисованная волоцким игуменом, вряд ли соответствует действительности. Зная о более чем сомнительных взглядах и предосудительном поведении Дениса, Алексея, их друзей и покровителей, Геннадий Гонзов, возглавив епархию, не озаботился сразу розыском корней ереси, не спешил пустить в действие свои смертоносные «ногти и зубы», а лишь спустя пару лет во второй половине 1487 года обнаружил ее очаг, причем совершенно неожиданно. Судить приходится с его слов о том, как «распростерлась ересь в Ноугородской земли, а держали ее тайно да потом почали урекатись вопьяне, и аз послышав то да о том грамоту послал к великому князю да и к отцу Геронтию митрополиту»[176]. Подробности же нового вероучения святитель Геннадий узнал только благодаря раскаянию попа Наума: «И только бы поп Наум не положил покааниа, да и в христианство опять не захотел, ино бы как мощно уведати по их клятве, как они отметаются своих велений», – писал архиепископ[177].
Складывается впечатление, что в своих посланиях Геннадий не столько излагает сведения о ереси, сколько пытается объяснить собственную бездеятельность, поскольку его корреспонденты – епархиальные владыки – прекрасно знали обстоятельства карьеры новгородского архиерея. Мы далеки от мысли, что ученик Савватия Соловецкого относился безучастно к кривоверию. Но как человек неравнодушный к власти и власть имущим, он был склонен скорее подольстится к великому князю, нежели вступать с ним в конфликт, обличая его фаворитов. Если бы он решился на это, не видать ему новгородской кафедры и вряд ли Иван Васильевич стал бы защищать Геннадия от нападок митрополита Геронтия. Не потому ли во время достопамятного инцидента с «неправильным» крестовым ходом вокруг Успенского собора архимандрит Чудова монастыря поддержал Ивана Васильевича, таким образом став на сторону «неизвестных прелестников»?
Полагаем, что Геннадий Гонзов отбыл из Москвы к месту нового назначения искренним приверженцем великого князя. Но положение главы новгородской епархии разительным образом отличалось от положения чудовского архимандрита, чье благополучие всецело зависело от государева расположения. В то время церковные владения в Новгороде занимали почти 20% от общего числа новгородских земель. Причем во владении архиепископа находилось свыше 5% земель. Фонд владычных земель в Новгороде был гораздо значительнее, чем тот, что находился во владении митрополичьей и епископской кафедр в Северо-Восточной Руси[178]. При том, что в январе 1478 года Иван Васильевич реквизировал у новгородского владыки 10 волостей (а хотел половину) и вдвое сократил земельные владения крупных монастырей[179]. По словам Б.Д. Грекова «Обедневшему Софийскому дому могла позавидовать любая архиерейская кафедра и даже сам московский митрополит»[180].
Для оказавшегося в роли крупнейшего землевладельца Геннадия вопрос о церковных и монастырских имуществах приобрел жизненно важное значение, а Иван Васильевич из благодетеля превратился в человека, угрожающего его благосостоянию, поскольку великий князь был не прочь повторить секуляризационный опыт. Иван III, очевидно, полагал, что верный ему Геннадий станет добросовестным помощником в этом деле. Но он обманулся в новом архиепископе, как в свое время в Иосифе. Отныне мы видим Геннадия в первых рядах любостяжателей. Не случайно при Геннадии в текст «Чина православия» было внесено анафематствование всем «начальствующим и обидящим святые божии церкви»[181].
Подчиненным Гонзова по епархии оказался волоцкий игумен. «И возвести архиепископ сие зло игумену Иосифу, и просит помощи: дабы, рече, злое сие еретичество не вошло в умножение неразумных человек. И сиа слышав отец Иосиф, зело оскорбися; и велми болезнуя о Православной вере от всего живота своего: разны бо телесным растоянием с архиепископом, а духом в единстве о Православной вере… И нача отец Иосиф ово наказанием, ово же писанием спомогати архиепископу, и о сем зело скорбяще…»[182].
Геннадий и Иосиф оказались единомышленниками, оба «разочаровались» в великом князе, оба зарекомендовали себя ярыми сторонниками незыблемости церковной собственности, оба связали судьбу с политическими силами, противостоящими кремлевской партии. Их сближению способствовало и то обстоятельство, что родные братья ближайшего друга Иосифа – Бориса Кутузова Михаил и Константин служили у новгородского архиепископа[183]. В качестве особого расположения Геннадий сделал Иосифа как бы своим наместником в Волоколамске, передав ему все доходы в Волочком благочинии.
Трудно судить, когда Иван III заметил произошедшую с Геннадием метаморфозу, но благожелательное отношение великого князя сменилось на враждебное. Геннадий рисковал повторить незавидную участь своего предшественника Феофила, смещенного Иваном Васильевичем. В 1479 году последнего избранного новгородцами архиепископа лишили сана, арестовали и отправили в Москву, где заключили в Чудов монастырь, то есть под надзор Геннадия. Знал новгородский владыка и о могущественном влиянии «неизвестных прелестников», вольным или невольным союзником которых он когда-то являлся. Что же внушало ему уверенность в правильности сделанного выбора и помогло во второй половине 1487 года внезапно «обнаружить» ересь и возвысить свой голос против богоотступников?
По нашему убеждению, эпизод с обнаружением ереси неразрывно связан с политической ситуацией, сложившейся в Новгороде. «Положение Геннадия осложнялось неприязненным отношением со стороны Ивана, а также тем обстоятельством, что его реальная власть была сильно ограничена действиями московских наместников», – указывает А.И. Алексеев[184]. Примерно в то же время, когда Геннадий занял епископскую кафедру, наместником города стал Яков Захарьин-Кошкин. Впервые он упомянут в летописи в этом качестве в 1485 году, когда по приказу великого князя боярин водил новгородские полки на Тверь. Яков Захарьин правил городом вместе с братом Юрием. Он не церемонился с опальным городом, обложив жителей непомерными штрафами, «ставил их на правеж». Обиженные и ограбленные новгородцы пытались найти справедливость у Ивана III. Тогда Яков Захарьин обвинил своих обличителей в государственной измене – покушении на жизнь наместника. Семь тысяч новгородцев были высланы в Москву – «занеже хотели убити Якова Захарьича, наместника Новагородского». Прочих мнимых или истинных заговорщиков – «иных думцев много Яков пересек и перевешал»[185].
Действовали ли Кошкины-Захарьины по своей инициативе, стараясь отвести от себя подозрения в лихоимстве, либо выполняли прямые указания великого князя относительно окончательного уничтожения новгородской элиты, в любом случае их действия поддержали в Москве. Геннадия Гонзова также с полным основанием можно считать московским церковным наместником. Первый назначенный архиерей из Москвы не смог обуздать глухое сопротивление местного духовенства, и ему пришлось вернуться восвояси. После столь очевидного фиаско Геннадию наверняка дали самые решительные наставления, а также предоставили полномочия по осуществлению карательных мер в отношении новгородского клира. Для выполнения задания требовалось скомпрометировать здешних иереев, отыскать повод для репрессий. В контексте драматических событий в городе «внезапное» раскрытие епископом ереси среди новгородских священников очень удачно сочеталось с раскрытием заговора среди новгородских бояр и купцов. Получалось, что новгородцы вынашивали преступные помыслы как по отношению к светским властям, так и по отношению к вере православной.
Были представлены весьма любопытные «улики». В январе 1488 года новгородский владыка писал хорошо нам знакомому суздальскому епископу Нифонту о том, как на берегах Волхова «наругаютца христьянству – вяжут кресты на вороны и на вороны. Многие велели: ворон деи летает, а кресть на нем вязан деревян(…) И ныне таково есть бесчинство чинитца над Церковъю Божиею и над кресты и над иконам и над христианьством»[186]. Москвич Геннадий мог не знать, что еще с домонгольских времен крестики часто входили в состав языческих амулетов, не имеющих отношения к христианству[187]. Этот пережиток пантеистических верований и был представлен как пример поругания православия.
Братья-наместники
Геннадий никогда бы не выступил самостоятельно, не синхронизировав свои действия со светскими властями. Пик репрессий против новгородской элиты пришелся на зиму 1488/89 года. С учетом того, что расследование и принятие решения относительно заговорщиков (или жертв оговора) занимало многие месяцы, получается, что архиепископ все сделал «вовремя». (А.А. Зимин не только отмечает совпадение по времени опалы на новгородцев с началом преследования Геннадием еретиков, но и безусловную связь между этими событиями.[188])
Внешне церковный наместник, как и наместник светский? выполнял волю Ивана III. Зарекомендовав себя преданными слугами государя, искоренителями крамолы, Захарьины в то же время руками архиепископа ловко наносили удар по окружению великого князя. Что касается Геннадия, то широковещательное обличение еретиков давало владыке относительную гарантию его благополучного будущего. Как бы неприязненно не относился государь к новгородскому архиерею, было ему не с руки выступать против борца с вероотступниками. А Геннадий между тем все раскручивал расследование. В феврале 1489 года Гонзов сообщил удалившемуся на покой архиепископу ростовскому Иосафу о том, что он вместе с Захарьиными провел новое расследование, но еретики «всех своих действ позаперлись»[189].
Так Иван Васильевич попал в крайне щекотливое положение. Надежда на то, что раскрытие ереси удастся замолчать, не сбылась. Благочестивое усердие Геннадия обличало окружение государя и его самого. Нетрудно представить, как злорадствовали удельные князья, прознав, что их державный братец собрал вокруг себя еретиков, и как негодовал на бывшего любимца Иван Васильевич, догадываясь о подоплеке архиерейского усердия. К 1490 году отношения великого князя с новгородским владыкой накалились до такой степени, что Геннадию запретили въезд в Москву[190].