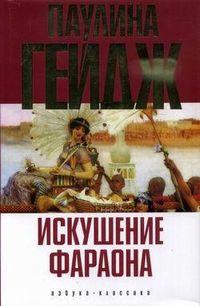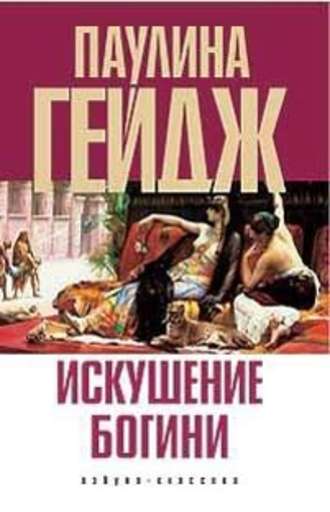 полная версия
полная версияИскушение богини
Пир продолжался всю ночь. Люди города пили и танцевали на улицах, бродили из дома в дом до самого восхода. Во дворце толпа гостей перелилась из залов в сады. Там на каждом дереве висели лампы, а на траве лежали мягкие подушки и стояли стулья, чтобы все могли порадоваться весеннему теплу. Хатшепсут, Тутмос и приглашенная знать занимали возвышение, которое почти утонуло в цветах, а Сенмут оказался за одним столом с молодыми людьми, Менхом, Хапусенебом, Юсер-Амоном, Джехути и другими; все они пили и требовали песен, аплодировали, громко кричали и беспрерывно ели. Покончив с трапезой, Сенмут откинулся на подушки и стал наблюдать за происходящим вокруг, а его осторожное второе «я» радовалось, глядя на выходки сотен гостей. Он почти задремал, когда Хапусенеб подвинул свой стул поближе к нему.
От него сильно пахло благовониями, восковой конус у него на голове уже растаял, покрыв маслянистым глянцем широкую грудь, но он не был пьян. Спокойные серые глаза с дружеским одобрением глядели в глаза Сенмута.
– Я слышал, ты получил новую должность, Сенмут, – сказал он.
Сенмут коротко кивнул. Он по-прежнему чувствовал себя неловко в обществе этого уравновешенного, самодостаточного юноши, поэтому встрепенулся и насторожился, ожидая следующих слов.
– Нам с тобой надо научиться работать вместе, – тихо продолжал Хапусенеб, – ибо я тоже преданно служу царице и жизнь моя принадлежит ей. Дни моего отца сочтены, – сказал он.
Сенмут бросил быстрый взгляд на высокий стол, где худощавый аристократ как раз опрокидывал очередной кубок.
– Скоро его жезл визиря Севера перейдет ко мне, а это значит, что мне придется много путешествовать на службе у фараона, и я не всегда буду здесь, когда во мне возникнет нужда.
«Этот человек знает что-то, чего не знаю я», – встревожено подумал Сенмут и поставил на стол только что взятый кубок. Хапусенеб по-прежнему с улыбкой глядел на него, но Сенмут знал, что в этот миг ему выносят оценку.
– Молодой Тутмос вступил в переписку с Мененой, тем самым, которого отстранил от должности фараон. Что это значит, мне не ведомо. Время покажет. Но тебе, к которому благоволит царица, я передаю в полное распоряжение мой дом, моих слуг и моих шпионов, на случай, чтобы в час нужды, когда меня не будет, ты мог действовать так, как поступил бы я сам.
Он посмотрел на весело смеявшуюся Хатшепсут в двойном венце, и его взгляд вернулся к Сенмуту.
– Покуда фараон жив, она в безопасности. Надо ли говорить больше?
Сенмут поспешно тряхнул головой, задаваясь про себя вопросом, чего стоило молодому аристократу такое признание.
Не дожидаясь ответа, Хапусенеб передвинул свой стул и заговорил с Юсер-Амоном, а Сенмут вернулся к вину. Его охватило неприятное предчувствие того, что жизнь его скоро станет намного сложнее и каждый шаг нужно будет делать с оглядкой. Внезапно молодой человек почувствовал усталость, и ему захотелось оказаться в своей постели, чтобы рядом был теплый бок Та-кха'ет, и он вышел из зала, не дожидаясь конца пира.
Хатшепсут видела, как он уходил, но тут специально приглашенные для этой оказии кефтийские танцовщицы завели свою песню, и она не пошла за ним.
Так Хатшепсут стала царицей. Тутмос предвкушал, как будет доживать свои дни, вспоминая о прошлом и ведя шашечные бои в тени садовых деревьев в компании старого товарища, пен-Нехеба. А еще он предвкушал, как поставит последние надписи для потомства на тех прекрасных творениях, которые были сооружены в его царствие как памятники ему. У него не было большого желания надолго задерживаться в Египте. Он устал, его тело, исполосованное шрамами старых битв, износилось под бременем власти. Он хотел только одного – поскорее мирно воссоединиться с богом. Если, вспоминая старшую дочь, он и мучился угрызениями совести, то не показывал этого, да и оставшийся в живых сын его не очень беспокоил. Он говорил себе, что сделал все возможное для будущего страны, оставив на престоле свою самую одаренную дочь, а на долю Тутмоса-младшего остались наслаждения.
Несколько месяцев подряд Хатшепсут с раннего утра отправлялась вместе с отцом в храм Амона, а оттуда – в комнату для аудиенций, где выслушивала донесения, диктовала указы губернаторам, улаживала разногласия. Коронация точно выпустила на свободу дремавшие в ней до тех пор силы, и она набрасывалась на работу с демонической страстью, не давая отдыха ни себе, ни слугам, излучая власть, словно сияние.
Отец Хапусенеба умер на охоте; Хапусенеб сразу же присягнул на верность в качестве визиря Севера и отправился с ревизией в подвластные ему провинции. Сенмут понемногу привыкал к новым обязанностям в храме, разрываясь между ним и строительной площадкой в долине, где уже трудились сотни рабов. Бения на чем свет стоит ругал испепеляющую жару, а дыра в скале становилась все шире. Там вырастало первое святилище.
Хатшепсут посетила церемонию натяжения шнура. Она сама держала выкрашенные белой краской веревки, пока строители мерили шагами размеры ее будущего храма и закладывали первый камень. В первый сумасшедший год своего правления не позабыла девушка и обещания, данного ею Хатор и другим богам, мимо чьих опустевших, разрушенных святилищ она проплывала во время своего путешествия вверх по реке. Забота о них была возложена на Инени. Когда Хапусенеб, который тоже когда-то был архитектором, вернулся с Севера, она приказала ему вырыть для нее в долине царей еще одну могилу; та, маленькая, которую избрал для нее отец, больше не годилась – ведь Хатшепсут стала царицей.
Но свою заветную долину она отдала Сенмуту. Каждый раз, когда ей позволяло время, она переправлялась через реку, сидя высоко над водой на прикрытом зонтом троне, и наблюдала, как люди, словно огромные муравьи, копошатся вокруг медленно встающей стены нижней террасы, черной стены Хатор. Ночами ей снилось, будто работы закончены и она спит в своем таинственном храме под белым солнцем.
Не пренебрегала Хатшепсут и своими новыми обязанностями в храме Амона. Повзрослев, она больше чем когда-либо раньше ощущала лежащую на ней длань бога. Она любила плясать в храме, где ее окружали украшенные гирляндами цветов жрицы, а воздух пах драгоценной миррой, и каждый день в минуты затишья, когда жизнь царицы переставала подчиняться строгим правилам, она выходила на балкон своей спальни и молилась, а Ра, проплывая у нее над головой, легко касался ее своими лучами.
Она знала, что подобной ей нет во всем мире, и величественное уединение ее духа вызывало трепет во всех, кто ей служил. Тутмос с сонным удовлетворением понаблюдал за ее расцветом, а потом предоставил ей править в одиночку, хотя часто прохладными вечерами она приходила к нему в сад за советом, садилась на траву у его ног, и тогда они целые часы проводили в бессвязной беседе. Нередко она брала с собой Сенмута, и Тутмос, которому нравился гордый юноша, неизменно радовался его приходу.
Хатшепсут чуть ли не в истерике отказалась занять прежние покои Неферу, когда стала царицей. Жить в комнатах матери она тоже не хотела. Новый дворец, который она строила для себя, соединяли со старым многочисленные залы и широкие проходы. Покои Неферу Хатшепсут приказала отделать заново, чтобы Сенмут был поближе к ней.
Из деревни приехал Сенмен, робкий, смущающийся своего грубого платья и провинциального акцента. Сенмут отдал ему свои прежние покои, где тот сидел, забившись, как пустынный лис в нору, и только дивился, каким могущественным и прекрасным, точно бог, сделался его брат. Так продолжалось, покуда он не привык к дворцу.
Хатшепсут взяла за правило посещать на заре посмертный храм Неферу, где стояла в одиночестве с приношениями в руках и слушала, как рассветный ветер вздыхает среди колонн. Только теперь она поняла болезненное и трогательное стремление сестры освободиться от постылого существования и впервые по-настоящему жалела о жизни, прервавшейся так рано. Неферу смотрела на нее с портрета с неизменной нежностью и всепрощением во взоре, но Хатшепсут не находила покоя, снова и снова твердя молитвы мертвой. Иногда она просыпалась со словами молитвы на устах.
Она видела, как толстеет и становится все более сонным ее отец, несмотря на былой огонь, который время от времени загорался в его глазах, вселяя трепет во всех и каждого. Целыми днями он только и делал, что дремал или играл в шашки с пен-Нехебом, у которого обычно выигрывал, и по-настоящему просыпался, только чтобы поесть и попить, а потом снова засыпал. Наблюдала она и за младшим Тутмосом. С годами тот стал упитанным и спокойным, а силы его, казалось, прибывали, точно он пил жизнь из слабеющего отца. Нет, Тутмос не был тем котом, который может в одночасье превратиться в леопарда. Внешне он оставался все тем же ленивым, приветливым мальчиком, который бурно реагировал на каждую шутку сестры, но теперь присутствовал повсюду – в храме, на пирах, ездил по городу, сидя за спиной колесничего. Хатшепсут не знала почему, но все это сильно ее тревожило, в особенности когда она перехватывала его взгляд или видела пустые глаза и медленно наползающую улыбку. Поэтому она удвоила усердие, стремясь узнать, понять и запомнить все, что происходило в ее царстве.
ЧАСТЬ III
Глава 13
Через пять лет после коронации Хатшепсут, весной, Тутмос уснул и не проснулся. Пир Мика[8] был в разгаре, и Амон покинул свой храм, чтобы стать в Луксоре пожирателем латука, богом излишеств плоти. В Фивах день и ночь бродила закваска пьянства и разврата, дворцы стояли пустыми, покуда их обитатели истощали себя на юге.
Инени нашел старого царя лежащим на подушках, глаза Тутмоса были закрыты, рот открыт, выпирающие передние зубы оскалены в предсмертной гримасе. С минуту Инени стоял, глядя на останки человека, с которым так долго была связана вся его жизнь. Потом быстро отвернулся, послал людей за царским лекарем и жрецами, а сам направился в покои Хатшепсут. Она была занята – одевалась для ночного ритуала, у дверей ее ждали носилки для поездки в Луксор. Ему удалось войти лишь после того, как он, сорвавшись, накричал на стражника у дверей и тот, пораженный, отступил и дал ему войти без объявления.
Царица вышла к нему, звеня браслетами, ее большие глаза горели.
– Инени, ты что, спятил? Я тороплюсь, не видишь? Ты что, хочешь, чтобы я тебя под замок посадила?
Морщины усталости проступили на ее лице, длинная мускулистая шея напряглась. Пир близился к концу, танцы ночи напролет измотали ее. Она схватила украшенный коброй венец и крепко сжала нервными пальцами; к ней подошла рабыня с гребнем в руках.
Инени поклонился, чувствуя, что не в силах говорить. Царица застучала ногой по полу:
– Ну, говори же! Что там стряслось? Ты болен?
Наконец он открыл рот, внутренне содрогаясь от слов, которые должны были сорваться с его губ. Наверное, его новость была отчасти написана у него на лице.
– Отец! Ему плохо? Инени покачал головой.
– Бог умер, ваше величество. Он отошел в чертог судилища во сне. Я послал за лекарем и жрецами. Может быть, вы сообщите его сыну?
Она застыла, не сводя с него глаз, потом резко отвернулась и положила корону на ложе.
Он наполнил вином кубок и поднес ей, но она отказалась. Он стоял беспомощно, не зная, что делать.
Наконец нагие плечи выпрямились, голова поднялась.
– Ты поступил жестоко, благородный Инени, принеся мне эту весть, – тихо сказала она. – А теперь прикажи послать за моим глашатаем и, когда он придет, отправь его в Луксор. Бог должен вернуться, а пир – прекратиться. О отец мой! – вдруг закричала она, вскинув руки. – Зачем ты оставил меня так рано? Мы так мало успели сделать вместе, ты и я!
Инени вышел и, покидая ее покои, приказал управляющему найти Сенмута, каким-то чутьем зная, что никто, кроме него, не сможет утешить ее сейчас. Быстрым шагом он пошел искать ее глашатая, и впервые в жизни испугался пустых, темных дворцовых коридоров, где не было ничьих голосов, только эхо звонко отдавалось от стен. В промежутке между двумя днями Египет погрузился в трясину неизвестности. Инени подумал о молодом Тутмосе, который наверняка сейчас барахтается в объятиях какой-нибудь жрицы на полу храма в Луксоре. И почувствовал, как у него перехватило горло.
Сенмут бежал, как не бегал никогда в жизни. Известие настигло его в тот момент, когда он, Бения и Менх, все трое сильно навеселе, выходили из пивной на окраине Луксора. Он планировал посмотреть танцы в саду храма, а оттуда пойти домой, к Та-кха'ет, но, как только потный перепуганный глашатай шепнул ему на ухо несколько слов, выронил свою кружку под ноги Бенин и кинулся бежать. Две мили его ноги работали как заведенные, руки колотили по воздуху, в голове все плыло от пивных паров. Сквозь хмельной туман он видел гуляк и паломников, которые, весело смеясь и освещая себе путь фонарями, шагали по другой стороне аллеи. Они остановились и долго смотрели вслед юноше, который промчался как безумный, только юбка развевалась. Вечер выдался нежаркий, тихий и приятный; безмолвные воды Нила, вдоль берега которого шла дорога, были темны и приветливы. Но Сенмут продолжал бежать, проклиная свою колесницу, что стояла в конюшнях позади дворца, ладью, что качалась на якоре у городского причала, носильщиков, которые покинули его во время кутежа. Тяжелый пояс с печатью колотил его по ногам. Он сорвал его и, не останавливаясь, намотал на руку. Влетев в сад царицы через ее личный вход, он сбавил шаг и перешел на запинающуюся рысцу, пока не остановился перед золоченой дверью. Постоял с минуту, подождал, пока выровняется дыхание и уймется дрожь в руках и ногах, и только потом кивнул стражнику и вошел внутрь.
Она стояла посреди комнаты, бесцельно заломив руки. Увидев, что пришел Сенмут, она вскрикнула и бросилась в его объятия. Едва она упала ему на грудь, его руки сами собой сомкнулись вокруг нее. Он отрывисто приказал рабыне выйти; а когда дверь за ней закрылась, подвел Хатшепсут к ложу, усадил и сам опустился рядом, поглаживая черную копну ее волос, покуда слезы молодой женщины падали ему на грудь.
– Горе, ваше величество, какое горе, – тихо нашептывал он, прижавшись губами к ее волосам. Она плакала, слезы сменились рыданиями, которые сотрясали все ее тело, заставляя вздрагивать и его. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. В конце концов он просто умолк, не разжимая объятий, прислушиваясь к шепоту и топоту множества ног в коридоре. Наконец он легонько оттолкнул ее от себя, встал, подошел к ее туалетному столику и вернулся с полотенцем. Обмакнул его в вино и стал вытирать ей лицо. Глаза со вспухшими веками были окружены черным, и слезы, стекая прямо по краске, размазали ее по щекам и даже по шее. Он тщательно отмыл лицо Хатшепсут, и она затихла, глядя на него пустыми глазами. Закончив, он снова заключил ее в объятия и поднес к ее губам чашу с вином. Она покорно пила, то и дело всхлипывая. Потом застонала, закрыла глаза и опустила голову ему на плечо.
– Я не могу к ним выйти, – сказала Хатшепсут.
– Ты должна, – ответил он. – Многое нужно сделать, а царица может позволить себе горевать лишь в собственной спальне.
– Нет! – воскликнула она. – Он же мой отец, слышишь! О могучий, где же ты теперь? – В волнении она впилась ногтями в его руку. – Померк свет Египта!
– Свет Египта – это ты, – сказал он решительно и резко. – Ты царица. Так не сгибайся под бременем горя, покажи своим подданным, из какого теста ты сделана.
Она затрясла головой и снова заплакала.
– Не могу, – твердила она. Это был крик души, вопль любой понесшей утрату женщины. Она зашарила по столу. – Вот. Мои печати и картуши. Возьми их, Сенмут. Я покину эту комнату, только когда настанет время проводить отца в его долину, в могилу. Делами в покое для аудиенций будешь заниматься ты.
Сенмут слушал, и его тревога нарастала. Это было совсем на нее не похоже. Он подумал о молодом Тутмосе, который наверняка уже ждет за дверью. Грубо оттолкнув ее, он встал и заставил ее посмотреть ему в лицо.
– Слушай, что я скажу, – почти закричал он, – и слушай внимательно. Ты не какая-нибудь крестьянка безмозглая, чтобы сидеть и выть в углу своей хибары. Думаешь, отец для того пестовал тебя, чтобы в один миг слабости ты разрушила все, созданное им? Хочешь, чтобы твои враги говорили: «Видите! Царица Египта сломалась, как хрупкая тростинка, какой мы ее и считали!»?
Он схватил ее руки и настойчиво встряхнул их.
– Держись! Из благодарности к отцу, подарившему тебе мир, не сдавайся! Неси свое бремя достойно. Снаружи ждут верховный жрец и правители провинций. И Тутмос, твой брат. Хочешь, чтобы они увидели твою слабость?
Она вырвала свои пальцы из его хватки и вскочила на ноги.
– Как ты смеешь так говорить со мной! Да я тебя в цепи закую! Выпорю собственными руками!
Знакомое ледяное пламя рвалось из ее гневных глаз; но он смотрел на нее в упор, не мигая.
Она первой отвела глаза и метнулась через всю комнату к зеркалу.
– Ты прав, – сказала она. – Я прощаю тебе твои слова. Сколько еще я буду плакать у тебя на груди? Открой дверь и позови мою рабыню. Когда я буду готова, то выйду к тем, кто за дверью.
– Он был могучим богом и великим фараоном, – тихо сказал Сенмут. – Память о нем будет жить в Египте, покуда Ра возит его в своей солнечной лодке.
– Да, – ответила она, слабо улыбнувшись. – И я не предам любви, которую мы питали друг к другу. Он был моим отцом, покровителем и другом, и я поступлю так, как он хотел бы. Египет мой.
Сенмут открыл дверь, позвал Нофрет, и девушка скользнула внутрь. За ее спиной сгрудились чиновники, но он закрыл дверь у них перед носом. Потом пошел, сел на ложе Хатшепсут и сидел там, пока не удостоверился, что она окончательно пришла в себя. Только когда она неподражаемым жестом надела корону, он оставил ее.
И не она, а он побрел, шатаясь от усталости, по коридорам дворца, теперь полным молчаливых, испуганных людей, к спасительной гавани собственной постели. Та-кха'ет уже спала на коврике у двери, кошка клубком свернулась у нее на пояснице, и он не стал их будить. Он разделся, наскоро помылся, но прежде чем поддаться усталости, грозившей вот-вот погрузить его в сон, написал и запечатал послание Хапусенебу, который отправился на церемонии в Буто. «Возвращайся, – гласило оно. – В тебе нуждаются».
Все семьдесят дней траура выдержка ни разу не изменила Хатшепсут. Холодно, без улыбки занималась она государственными делами, но острое горе, которое женщина прятала под маской спокойствия, грызло ее неотступно, пока ей не стало казаться, что она просто не сможет пережить следующий день. Жрецы, спустившись по ступеням ниломера, измерили уровень воды в реке и доложили, что наводнение в этом году небывалое. Они посоветовали ей поднять налоги, но она рассеянно выслушала их и распорядилась, чтобы сборщики налогов, наоборот, ограничили в этом году все поборы в память Тутмоса. Она приняла наместника Нубии и Эфиопии, Инебни Справедливого, который поведал, что золотые прииски в его краях работают на полную мощь, а значит, не могут дать золота больше, чем дают сейчас, но она отослала его к Сенмуту и велела тому разобраться. Ей казалось, что ее былой интерес к сбору средств на постройку памятников угас навсегда, ибо что толку в прекрасных строениях, если она никогда не услышит отцовского одобрительного хмыканья? Пришел караван, привез бирюзу из Синая, горный хрусталь и красный халцедон из Восточных Пустынь. Если раньше она сидела бы на троне и не отрываясь следила за пересчетом сокровищ, то теперь горе сделало ее безразличной ко всему, так что Инени, исполняя обязанности казначея, продиктовал писцу Анену вес и ценность каждого предмета, а потом проследил за тем, чтобы Амон получил свою долю. Только с Сенмутом могла она говорить о своей тоске, лишь для его ушей были предназначены все ее жалобы, и все же никаких более близких контактов она не поощряла. Она ушла в себя, в свои божественные мысли, и хотя ему страстно хотелось снова прижать ее к сердцу, она больше походила на звезду, холодно светящую в ночи, чем на женщину из плоти и крови.
В день похорон они с Тутмосом бок о бок прошли через некрополь и вышли в пустынные холмы. В последнем приступе отчаяния Хатшепсут упала на гроб отца, рассыпая цветы, которые сама возложила на него перед этим. Когда хоронили мать, все было мирно, спокойно. Всю дорогу назад во дворец она держала руку отца. Но теперь, в полумраке могилы, в окружении хорошо знакомых вещей, каждая из которых была напоминанием о счастливых днях, она не выдержала. Даже Тутмос был невольно тронут. Неловко склонившись над ней, он помог ей подняться на ноги, и она не оттолкнула его, а оперлась на его пухлую руку. Но едва они вышли на свет, она забрала свою руку и, не сказав ни слова, пошла по извивающейся тропинке вниз, к плакальщикам, предоставив ему следовать за ней, точно тень.
Во дворце ей тоже не стало легче. Не с кем было разделить тихую трапезу, не было отца, хорошо понимавшего нужду молоденькой девушки в слове, шутке, игре, которые облегчили бы ей боль утраты и неотменимость смерти. Она прошла в свой покой, где царила тишина, и решительно захлопнула дверь.
«Позже я буду молиться тебе, о отец мой, – подумала она, одиноко стоя в бесприютном луче солнечного света и чувствуя, как входит в нее тишина. – Но сейчас мне хочется лишь одного – чтобы все было как прежде».
Она стряхнула с себя синий траурный плащ, сняла корону и легла на свое ложе. Хотя ей совсем этого не хотелось, она заснула.
Посреди ночи Сенмута разбудил посланец с Севера. Он был усталый, в измятой одежде, с измученным лицом. Когда Сенмут зажег лампу и надел набедренную повязку, то обнаружил, что ни свитка, ни письма у вестника нет.
– На столе хлеб и вино, – сказал ему Сенмут. – Сядь и поешь, потом расскажешь новость.
Но тот отказался.
– Я должен быть первым, кто придет с Дельты, – ответил он срывающимся от усталости голосом. – Новость моя коротка. Три недели назад Менена оставил свои поместья и теперь находится в покоях Тутмоса-младшего. Это все.
Сенмут присвистнул:
– И этого хватит. А ты уверен, что Менена уже сошел на берег и теперь пребывает во дворце?
Посланник выразительно кивнул:
– Я видел его собственными глазами.
– Тогда отправляйся немедленно к визирю Хапусенебу. Он ночует в доме одной милей ниже по течению. Я пошлю с тобой стражника и вот это.
Он сердито порылся в шкатулке из слоновой кости и вытащил оттуда печать Хапусенеба.
– Передай ему, пусть, не мешкая, отправляется к царице. Я буду ждать его в саду перед ее дверью.
Та-кха'ет уже не спала, а сидела на своем камышовом коврике и напряженно прислушивалась. Сенмут окликнул ее:
– Принеси мне плащ и сандалии, малышка.
Она встала, а кошка, зевая и потягиваясь, отошла в угол, села и уставилась на него желтыми немигающими глазами. Посланец поклонился и вышел, забрав печать, а Та-кха'ет робко положила руку на плечо Сенмута:
– Господин, что-то случилось? Нам грозит опасность? Он поцеловал ее сонные глаза, не переставая лихорадочно думать. Слишком поздно – и слишком рано. Слишком поздно – теперь уже ничего не успеть, царице остается только принять неизбежное, и слишком рано – за такой короткий срок она не успела собрать и укрепить правительство, которое сделало бы ее фараоном. Удар был тяжелый.
– Ложись в постель. – Он подтолкнул Та-кха'ет к кровати. – Поспи в тепле, я не вернусь до утра. Если меня будет искать Сенмен, дай ему вина и скажи, что я зайду к нему утром. Мы с ним должны были пойти посмотреть новую партию бычков. И не бойся! Тебе ничего не грозит, моя хорошая. Она уже забралась в постель, за ней прыгнула кошка.
То замирая в тени садовой ограды, то принимаясь мерить ее шагами, Сенмут ждал Хапусенеба. Ночь была чудная, луна стояла высоко, разбрасывая бледные тени среди деревьев, но сегодня Сенмуту было не до красот. Ему казалось, что старый верховный жрец со своими прихвостнями вот-вот появится из темноты, и у него сводило живот от страха. В ветвях сикоморов шелестели и отрывисто перекликались ночные птицы, рыбы в маленьком декоративном пруду то и дело поднимались к поверхности, чтобы подышать. Наконец между деревьев мелькнула чья-то темная тень. Хапусенеб подошел молча, его глаза под слепыми пальцами луны казались серее обычного, и Сенмут быстро передал ему слова посланца.
Хапусенеб выслушал его без удивления, не говоря ни слова. Потом пожал плечами.
– Тут ничего не поделаешь, – сказал он. – Время для нее еще не настало. Не думаю, чтобы Тутмос был по-настоящему честолюбив. Просто он хочет отомстить за неудачи, которые много лет подряд терпел в глазах отца, и, по-моему, титула фараона ему хватит, при условии, что кто-то другой возьмет на себя всю работу. Египет не пострадает. В конце концов, он умеет нравиться, этот молодой человек.
– Царица так не считает.
Хапусенеб негромко рассмеялся, его зубы сверкнули белизной. Он положил руку Сенмуту на плечи.