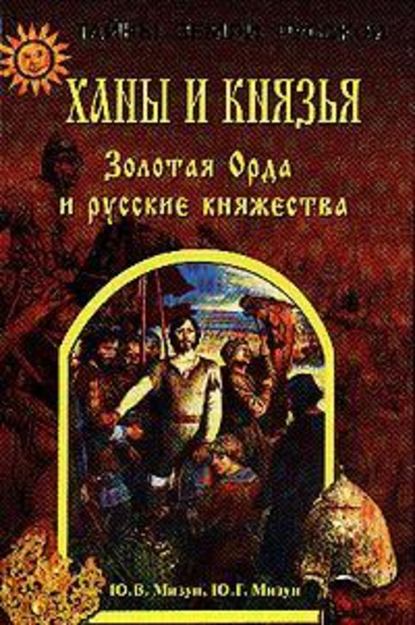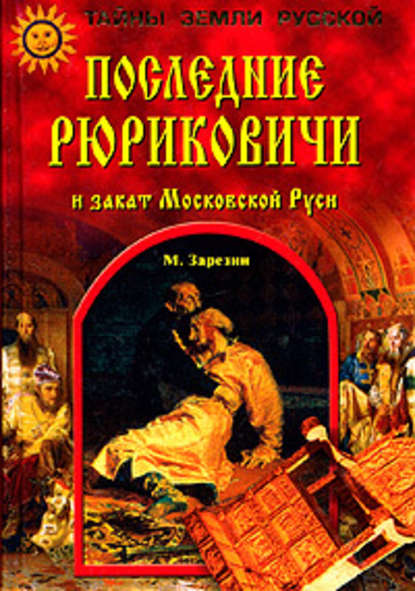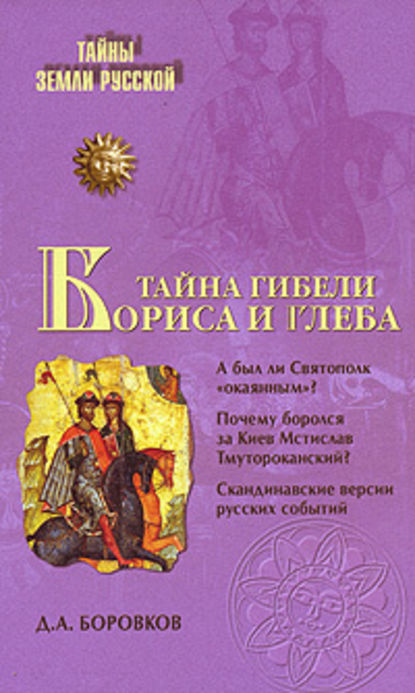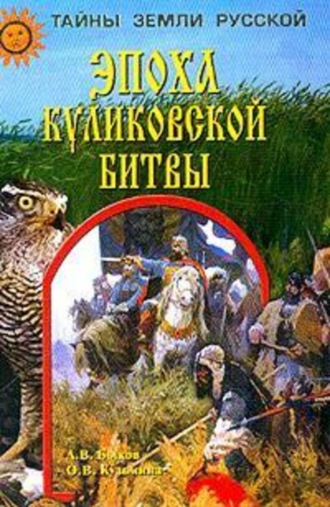 полная версия
полная версияЭпоха Куликовской битвы
И пошел в спальню свою, послав скоро за братом своим, князем Владимиром Андреевичем, а он же был в области своей в Боровске, и за всеми воеводами своими местными. Князь же Владимир Андреевич пришел на Москву скоро. Князь же великий, видев брата своего, князя Владимира, и прослезился скоро и, взяв его за руку, пошел с ним в комнату, наедине сказав ему: «Слышал ли, брат, о надвигающейся скорби на нас, о нашествии поганых?.».
Обращает на себя внимание сходство образов Ильи Муромца и князя Владимира Андреевича. Наметившееся в данном эпизоде, это сходство усиливается с развитием сюжета.
«Отвечал же князь Владимир великому князю, сказав: «Ты глава всем главам и государь всей земли Русской. Как объят ты великою печалью об этом?.. Надлежит, государь, всем головам нашим любезно под мечом умереть… нежели нам в рабстве быть под рукою злочестивого сего Мамая, лучше, государь, нам почетную смерть принять, нежели позорную жизнь видеть!»
Почти те же слова произносит в былине Илья Муромец, обращаясь к богатырям:
Уж вы удалы добры молодцы!Постоим-ка-ся мы за веру христианскую,И за те же за храмы за Божие,И за те же честные монастыриИ своею мы кровью горячею,И поедем мы в далече чисто поле,На рать – силу великую,Поедем мы все, покаемся…А не приедем из того побоища Мамаева, —Похорони (князь) наши тела мертвыеИ помяни русских богатырей,И пройдет славушка про нас немалая.Недаром Владимира Андреевича называли главным героем Куликовской битвы. В памяти народа Владимир Хоробрый почти равен Илье Муромцу, великому богатырю русскому.
Не вызывает сомнений, что с былинными богатырями олицетворяли на Руси самых известных князей, причем не только «положительных» героев, но и тех, о ком сохранилась в народе сомнительная, спорная слава. Так обращает на себя внимание необычный персонаж былины – Василий Прекрасный, родственник ордынского хана. Возможно, былина донесла до нас отголоски конфликта 1394 года, когда после смерти Бориса Константиновича (бывшего нижегородского князя) оба племянника его, Василий и Семен Суздальские, бежали из Суздаля в Орду и стали служить там ханам. Обращает на себя внимание тот факт, что Василий Прекрасный описывается в былине не как, к примеру, Тугарин Змеевич, а как типичный русский богатырь:
Садился тут Василий на добра коня,Поехал Василий во Киев-град,Не дорогой ехал, не воротами,Через стены скакал городовые,Мимо башенки те наугольныя,Подъезжал ко двору ко княжескому,И соскакивал с добра коня удалой…Разумеется, Василий Прекрасный – это собирательный образ, а не конкретный Василий Суздальский, поэтому некое его «раздвоение» в дальнейшем тексте и «временной сбой» не должны сбивать нас с толку. Память былины своеобразна и избирательна, а позднейшие наслоения искажают первоначальный текст, так что с течением времени прошедшие события становятся полусказочными, легендарными.
Историчность былины подтверждают и летописные источники. Так, и в былине и в летописях рассказывается, что великий князь попытался откупиться от Мамая, решить дело миром. В былине Василия Прекрасного, посла Мамая, щедро «дарят золотой ка зной»:
Подарили один кубчик чиста золота,А другой-от подарили скатна жемчуга,Да дарили еще червонцей хорошиих.Дарили еще соболями сибирскими,Да еще дарили кречетами заморскими,Да еще дарили блюдами однозолотными,Да бархатом дарили красныим.Принимал Василий подарочки великиеИ вез к Мамаю в белополотняный шатер.Как известно из «Сказания о Мамаевом побоище», возобновление выплаты дани «по старине» Мамая не удовлетворило, ему этого уже было мало. И тогда собираются под знамена великого князя «князья белозерские с многими силами… Пришел князь Симеон Федорович, князь Семен Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский и Андомский. Пришли же князья Ярославские: князь Роман Прозоровский, князь Лев Курбский, князь Дмитрий Ростовский, и с ними князья многие, и бояре, и дети боярские».
Собираются на клич Ильи Муромца русские богатыри, названные в былине поименно:
Самсон Колуван,Дунай Иванович,Василий Касимеров,Михайлушко Игнатьев с племянником,Поток Иванович,Добрыня Никитич,Алеша Попович,два брата Ивана,«да еще два брата, два Суздальца».Встали русские князья-богатыри на битву с Мамаем, «хотя боронити своея отчины, и за Святыя церкви и за правую веру христианьскую, и за всю Русскую землю».
И все же былина – это истинно народное творчество. В «Сказании» великий князь перед выходом из Коломны «многих князей и воевод позвал к себе хлеба вкусить». В былине это скромное «хлебосолье» разрастается до поистине русских масштабов!
Садились добры молодцы на добрых коней.Поехали добры молодцы во чисто поле,И расставили они шатры белополотняные,Гуляли они трои суточки,А на четвертые сутки протрезвилися,И начали они думу думати, совет советовати…Да, широка душа у русского человека – уж гулять, так гулять, воевать, так воевать!
Главный герой былинного Мамаева побоища – Илья Муромец. В одиночку пробирается он в стан татар и убивает самого Мамая. Но не в силах он был справиться со всей ратью вражеской, и тогда «затрубил старый во турий рог»:
И наехали удалы добры молодцы,Те же во поле быки кормленые,Те же сильные могучие богатыри,И начали силу рубить со края на край.Не оставляли они ни единого на семена,И протекала тут кровь горячая,И пар шел от трупья по облака…«Черна земля под копыты, а костьми татарскими поля насея-ша, а кровью их земля пролита бысть. Сильнии полки ступишася вмести и протопташа холми и луги, и возмутишася реки и потоки и озера. Кликнуло Диво в Русской земли, велит послушати грозным землям. Шибла слава к Железным Вратам, и к Ворнавичом, к Риму и к Кафе по морю, и к Торнаву, и оттоле ко Царюграду на похвалу русским князем: Русь великая одолеша рать татарскую на поле Куликове на речке Непрядве».
Все, победа. Но былина не закончена. Два богатыря не принимали участия в битве:
Оставались только в лагерях у старогоДва брата – два Суздальца,Чтобы встретить с приезду богатырей кому быть…Интересно, что реальная история знает суздальских князей, не принимавших участия в Мамаевом побоище. Это уже упоминавшиеся выше два родных брата – Василий и Семен Суздальские, сыновья Дмитрия Константиновича Нижегородского, тестя великого московского князя.
Дальнейший рассказ о былинных Суздальцах вызывает еще более интересные ассоциации:
Не утерпели тут два брата СуздальцаИ поехали во ту рать – силу великую.А и приехал тут стар казак со другом,А встретить-то у лагерей и некому.И ехали от рати великияТе два брата, два Суздальца,И сами они похваляются:«Кабы была теперь сила небесная,И все бы мы побили ее по полю».Вдруг от их слова сделалось чудо великое:Восстала сила Мамаева,И стало силы больше в пятеро…Тут поехала дружинушка хоробраяВо ту рать – силу великую,И начали бить с краю на край,И рубили они сутки шестеро,А встават силы больше прежнего.Узнал старый предсобой вину,И покаялся старый Спасу пречистому:«Ты прости нас в первой вине,За те слова глупые,За тех же братов Суздальцев».И повалилась тут сила кроволиткая,И начали копать мать сыру землюИ хоронить тело да во сыру землю,И протекла река кровью горячею.При всей фантастичности сюжета некие исторические аналогии отыскать все же возможно. Обратимся к уже знакомому нам произведению древнерусской литературы – «Повести о нашествии Тохтамыша», в которой рассказывается о взятии и разорении Москвы ханом Тохтамышем в 1382 году. Видимо, предательства князей Василия и Семена Суздальских не забыли в народе, отголоски тех событий, своеобразно видоизменившись, прозвучали в былине. «Вина братьев-Суздальцев» – это грех клятвопреступления, который герои-богатыри будут замаливать всю оставшуюся жизнь:
Садились тут удалы на добрых коней,Поехали удалы ко граду ко Киеву,Заехали они в крашен Киев-град,Во те же во честны монастыри,Во те же пещеры во Киевски;Там они и преставилися.Тут старому и славу поют.Впрочем, существуют и другие варианты концовки былины. В одних случаях богатыри побивают восставших татар, но сами в наказание за похвальбу окаменевают, и с тех пор на Руси нет больше богатырей. В других случаях они, побив всех врагов, весело пируют, а есть и такие варианты, в которых Илья после смерти объявляется святым. Видимо, варианты былины зависели от рассказчика, от его идейной позиции.
Мамаево побоище былины – это, разумеется, не реальная Куликовская битва и не рассказ о взятии Москвы Тохтамышем. Былина – не летопись, она следует не букве, но духу истории. Однако не стоит забывать, что «сам фольклор – тоже документ истории, одна из самых неопровержимых и достоверных летописей внутренней жизни народа, его идеалов и идей», – как метко заметил Е. Калугин. И в этой летописи хранится память о многих славных и горестных событиях русской истории, нужно только уметь расшифровать эти страницы, и тогда в рокоте струн оживет Древняя Русь, удивительная, незнакомая и совсем не похожая на тот лубочный образ, к которому мы привыкли на школьных уроках истории.
ПОД ВЛАСТЬЮ ТОХТАМЫША
Москва, что доска: спать широка, да везде гнетет.
Народная мудрость.ЕДИНСТВО ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
После подавления мятежа в Москве Тохтамыш полностью восстановил свою власть над Северо-Восточной Русью. В 1382 году Тохтамыш до Литвы не дошел, но он наглядно продемонстрировал литовским князьям, что в любой момент может это сделать. Поэтому, хотя юго-западная и северо-западная Русь по-прежнему оставалась в составе владений великого князя Литовского, но литовские князья вынуждены были платить теперь дань Тох-тамышу за те русские земли, которые раньше были подчинены татарам.
Тохтамышу удалось объединить вокруг Сарая все улусы Золотой Орды. Своими успехами хан был обязан прежде всего Тимуру. «Власть и могущество Тохтамыша стали развиваться, и, благодаря счастливому распоряжению Тимура, все улусы Джучи-евы вошли в круг его власти и господства», – писал один из историков Тимура-Шераф-ад-дин Иезди.
Тимур, или, как его иногда называют, Тамерлан, был властителем Средней Азии – одним из величайших полководцев и правителей своего времени. Он начал создание своей империи в 60-х годах XIV века, объединив под своей властью разрозненные прежде феодальные владения в междуречье Сырдарьи и Амударьи и сделав своей столицей древний город Самарканд. Тамерлан создал одну из самых боеспособных армий своего времени и практически непрерывно вел войны с соседями, расширяя свои владения.
Золотая Орда, с которой его земля соприкасались с севера, была для Тамерлана серьезным противником и конкурентом в борьбе за контроль над приносящими огромную прибыль караванными путями из Китая в Европу.
В 1376 году Тамерлан поддержал одного из золотоордынских царевичей – Тохтамыша, дав ему небольшое войско и область Сауран на севере своих владений. И Тохтамыш начал борьбу за контроль над Синей Ордой. Синяя Орда, ранее бывшая частью Золотой Орды, в 1376 году находилась под властью уже известного нам Урус-хана. В 1376 году произошло первое столкновение войск Тохтамыша с силами Урус-хана, но Тохтамыш был разбит и снова бежал к Тамерлану. Зимой 1377 года во главе огромного войска сам Тамерлан двинулся на войска Урус-хана и после долгой борьбы разгромил его. Урус-хан умер в этом же 1377 году. И Тамерлан поставил Тохтамыша ханом Синей Орды.
Однако несколько месяцев спустя сын Урус-хана Тимур-Ме-лек напал на владения Тохтамыша и, разгромив его, захватил власть над Синей Ордой.
Зимой 1379 года Тамерлан снарядил против Тимур-Мелека огромное войско, «чтобы они посадили на престол в Сыганаке (столице Синей Орды. – Прим. авт.) Тохтамыша». Тимур-Мелек был разбит. Большинство эмиров покинуло своего хана. Князья Синей Орды стали переходить на сторону Тохтамыша.
С помощью Тамерлана закрепившись в Синей Орде, Тохтамыш в 1380 году совершил поход на столицу Золотой Орды – Сарай и, разбив осенью этого же года Мамая на Калке, установил свою власть над всей территорией Золотой Орды.
«Великая замятня» кончилась. Бессмысленная гражданская война всех против всех прекратилась. В Золотой Орде установился долгожданный мир. С облегчением восприняли появление сильного, справедливого царя и на Руси. Тохтамыш правил в Сарае на протяжении 15 лет.
КТО ТУТ В МИТРОПОЛИТЫ КРАЙНИЙ?
После мятежа 1382 года митрополит Киприан не спешил возвращаться в Москву. «Той же осенью был Киприан митрополит на Твери… князь же великий Дмитрий Иванович послал за ним двух бояр своих: Семена Тимофеевича да Михаила Морозова, – зовя его на Москву к себе». Но в Москве Киприан надолго не задержался.
«Той же осенью князь великий Дмитрий Иванович послал за Пименом за митрополитом и привели его из заточения». В Москву Пимена привезли уже после изгнания Киприана, причем привезли его не прямо из Чухломы, а из Твери, о чем свидетельствует Тверская летопись: князь Дмитрий «Пимена с честью привел с Твери на Москву».
Видимо, в Твери Пимен останавливался, дабы утвердить в городе свою власть. Ведь до того здесь долгое время жил Кипри-ан и наверняка настроил тверского князя и архиепископа против Пимена.
Еще до своего изгнания, находясь в Твери и предчувствуя разлад с великим князем, Киприан написал «Повесть о Митяе» – своеобразное предостережение Дмитрию Ивановичу от почти готового решения сменить митрополита. До этого, в 1381 году, в похвальном слове митрополиту Петру Киприан мягко наставлял князя, рисуя благостную картину послушания князя Ивана, отца Дмитрия, митрополиту Петру. Теперь же тон Киприана изменился. В «Повести» он насмехается над своими недругами – Митя-ем, Пименом и продажным патриархом Нилом. Предостережение не помогло – князь выслал Киприана из Москвы. Формальным предлогом могли послужить грамоты против Киприана и в защиту Пимена, которые отправлял на Русь патриарх Нил, прося московского князя избавить Пимена от «телесных бедствий» и принять его как местного архиерея. Впрочем, ранее известие о по-ставлении Пимена не помешало Дмитрию Ивановичу наплевать на решение патриарха и призвать Киприана на Москву.
Таким образом, великий московский князь не отступился от идеи подчинить своей воле Русскую православную церковь. Несговорчивого, самостоятельно действующего Киприана Дмитрий Донской силой заменяет Пименом, полагая, что тот не выйдет из-под воли князя.
За митрополита Киприана никто из церковных иерархов Руси не вступился. Феодор Симоновский, бывший сторонником Кип-риана, сумел не попасть в опалу и остался духовником Дмитрия Ивановича. Архиепископ Дионисий Суздальский тоже сумел быстро восстановить хорошие отношения с Московским великим князем, а Сергий Радонежский по-прежнему крестил новорожденных княжеских детей. И только игумен серпуховского общежительского монастыря Афанасий по своей воле ушел вместе с изгнанным из Москвы Киприаном.
Итак, осенью 1382 года Русь имела трех митрополитов: Галиц-кая Русь, захваченная Польшей, имела своего митрополита Антония; южная и западная Русь, подвластная Литве, – митрополита Киприана; Великая Русь – митрополита Пимена.
Но такое положение дел сохранялось недолго. Дионисий, архиепископ Суздальский, «…под видом исправления бедствующей русской церкви коварно забирает в свои руки всю власть» – так пишет о событиях в Москве византийский летописец. Видимо, Дмитрий Донской быстро разочаровался в Пимене, а Дионисий сумел втереться в доверие к князю.
Летом 1383 года великий князь Дмитрий Иванович отправляет Дионисия в Византию для того, чтобы константинопольский патриарх поставил его митрополитом всея Руси вместо Пимена. Вместе с Дионисием едет духовник князя Феодор Симоновский. Явившись к патриарху Нилу, архиепископ Дионисий вручил ему грамоты великого князя Дмитрия и других князей, содержащие обвинения против Пимена, а игумен Феодор Симоновский засвидетельствовал, что власть в Церкви по низложении Пимена должен получить, согласно великокняжеской воле, Дионисий. Послы настаивали на немедленном рукоположении Дионисия, патриарх же склонялся к долгому расследованию. От этого послы пришли в ярость и «излили на всех нас (патриарха и собор. – Прим. авт.) поток многих ругательств с прибавлением насмешек, обвинений и ропота». То есть Дионисий, учтя опыт Пимена, решил, что никаких денег на подкуп византийских мздоимцев все равно не напасешься, тем более что главным аргументом в споре с византийцами являются напор и грубая сила. Исходя из этого он и дей-ст вова л.
Но согласия не было и среди самих послов. Часто возникали распри, когда они, «разделенные на две, нередко три партии, представляя в одно и то же время противоречащие грамоты, обвиняя друг друга и восставая друг на друга… производили разделение и раздор». Напрашивается предположение, что еще кто-то из послов захотел сделаться митрополитом всея Руси, раз уж все равно приехал в Константинополь.
Патриарх в конце концов выполнил волю великого князя Дмитрия Ивановича и, рукоположив Дионисия в митрополиты отпустил его на Русь.
Интересно, что Феодор Симоновский задержался в Константинополе. Возможно, именно между Феодором и Дионисием возник «раздор» на почве – «а почему это тебя в митрополиты, а не меня?» Но митрополитом Феодор Симоновский так и не стал.
Весной 1384 года «пришел изо Царьграда в Киев Дионисий епископ, его же поставили в Царьграде митрополитом на Русь (выходит, на всю Русь? – Прим. авт.); и помышлял от Киева идти на Москву, хотя быть митрополитом на Руси».
А вот приезд в Киев был крупной ошибкой новоиспеченного митрополита. «И схватил Дионисия киевский князь Владимир Ольгердович, говоря ему: Пошел ты на митрополию в Царьград без нашего повеления». Это доказывает, что Дионисий претендовал и на литовскую митрополию. В Киеве он собирался заявить о своих правах и передать Киприану вызов в патриархию для низложения. Киевский князь решил иначе. С согласия или при попустительстве Киприана, он арестовал Дионисия, и тот пробыл в заточении до самой своей смерти (15 октября 1385 года).
Итак, совершенно незаметно, в круговороте политической борьбы, бывший идеалист Киприан начинает действовать методами своих политических противников. Он больше не надеется на правду. Авторитет константинопольского патриарха рухнул в его глазах еще в 1380 году. С тех пор он считает, что на земле над ним нет больше судьи. Киприан принял от Дмитрия московскую митрополию, нарушив таким образом постановление вселенского собора. В1382 году он не пытался предотвратить избиение не вступившихся за него перед толпой московских священников. И, наконец, он позволяет (а, может быть, и приказывает) киевскому князю загубить своего бывшего сторонника, а теперь конкурента – Дионисия. Это уже поступки жесткого прагматичного политика, а не того мечтателя, каким был Киприан в начале своей карьеры.
До зимы 1384 – 1385 года Пимен оставался в Москве и считался митрополитом всея Руси. Зимой же в Москву приехал Феодор Симоновский и пришли посолы от Константинопольского патриарха. Они расследовали дело Пимена, признали все обвинения против него правильными «и извергли его из церкви».
«…Пимен, изверженный из той церкви, бежал оттуда, сложил с себя монашеские одежды, надел мирские и, после долгих скитаний с места на место, достиг Царствующего града». Маскарад Пимена и его скитания объясняются понятным нежеланием встречаться со своими кредиторами-генуэзцами. Ведь долг Пимена князь Дмитрий Донской так и не оплатил.
В Константинополе Пимену пришлось ждать возвращения патриарших послов, которые из Москвы поехали в Киев, дабы передать Киприану вызов патриарха. Киприан ехал в Константинополь неохотно: «Мне не хотелось от своих детей нигде бывати. Да что взяти! Кто меня в труд путный вложил в сие время? Господь пак да подаст ему (видимо, Киприан имеет в виду патриарха. – Прим. авт.) познать истину… А лживого человека и льстивого Бог объявит». Киприан уже не верит, что из этой поездки будет какой-то толк. Ему не хочется бросать важные дела, требующие его присутствия.
Лишь к 1386 году оба претендента на роль митрополита всея Руси встретились в Константинополе. Но длительное разбирательство закончилось ничем. Митрополит Пимен не был смещен, несмотря на все выдвинутые против него обвинения. А митрополит Киприан вернулся в Литву. Митрополия осталась разделенной.
Между тем в Константинополе, после отъезда Киприана, произошли очень интересные события. Феодор Симоновский, посланный в Византию великим князем Дмитрием с обвинениями против Пимена, неожиданно нашел общий язык с опальным митрополитом и бежал с ним из Константинополя на азиатский берег Босфора. Уговорам императора и патриарха вернуться они «не вняли, но, убежав к туркам и найдя у них поддержку, осыпали многими ругательствами и царство и церковь», а затем «со всею поспешностью пустились в путь, ведущий на Русь». Видимо, ни сил, ни терпения, чтобы выносить долее константинопольское издевательство над здравым смыслом, у спорящих сторон уже не было. Деньги на взятки, видимо, тоже кончились. Возмущение творящимся в Константинополе безобразием примирило бывших врагов. Пимен даже рукоположил Феодора в архиепископы. При этом Феодор умудрился сохранить хорошие отношения с Киприаном.
ДЕЛА ЛИТОВСКИЕ
Под 1381 годом летописи сообщают: «Был велик мятеж в Литве и встали сами на себя и убили великого князя Кейстута Геде-миновича и бояр его, а сын его, князь Витовт, бежал в немцы, и много зла сотворил земле Литовской».
Литовское предание более подробно рассказывает об этих событиях. После убийства Кейстута та же участь ожидала, видимо, и Витовта, взятого Ягайлой в плен вместе с отцом. Жена Витов-та, Анна Святославна, спасла мужа, переодев в женское платье, и Витовт бежал из кревской крепости к мазовецкому князю Яну-шу, своему шурину. Тогда Ягайло заключил Анну в темницу в Вильно.
Витовт обратился за помощью к магистру Ливонского ордена. Тот воспользовался возможностью посеять смуту в Литве и пограбить ее города и селения. Разгорелась междуусобная война, и в 1384 году Ягайло был вынужден заключить мирный договор со своим двоюродным братом Витовтом.
Помирившись, Витовт и Ягайло совместно ударили по ливон-цам. После трехнедельной осады они взяли ливонскую крепость Ковно. Орден понес огромные потери. Однако Ягайло не вернул Витовту отцовский Трокский удел. Вместо этого Витовт получил часть бывшего Владимиро-Волынского княжества и ряд других городов и владений.
В 1384 году Дмитрий Иванович Донской предпринимает попытку сблизиться с великим князем литовским Ягайло. Сохранились сведения о московско-литовских договорах 1384 года. Содержание первого таково: «Докончальная грамота великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича с великим князем Ягайло с братьею его и со князем Скиригайло и со князем Корибутом; и против того другая грамота великого князя Ягайла и братьи его Скиригайло и Карибута, как они докончали и целовали крест великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу и их детям, лета 6902 года».
Второй договор был предварительным и предусматривал брак Ягайло с дочерью Дмитрия Донского при условии подчинения Литовского князя верховной власти князя Московского и признания Православия государственной религией Великого княжества Литовского. Возможно, оба эти договора были составлены при содействии митрополита Киприана, который в это время находился в Литве.
К 1384 году правящая верхушка Великого княжества Литовского осознала свою неспособность самостоятельно отстаивать целостность собственного государства. Они искали твердой опоры в своих соседях. Был выбор: либо Москва, либо Польша. Но предварительные договоры с Москвой так и не были реализованы. Вместо этого 15 августа 1385 года в Креве в Литве была подписана Кревская уния – событие чрезвычайно важное, решительно изменившее направление истории не только наших земель, но и всей Восточной Европы. Возможно, если бы Киприану не пришлось в этот момент уехать в Царьград, все сложилось бы иначе.
Еще совсем недавно между Польшей и Литвой шла кровавая борьба за владения в Галиции. И вдруг эта борьба закончилась унией, т. е. объединением Польши и Литвы под властью великого князя литовского Ягайло, который занял польский трон.