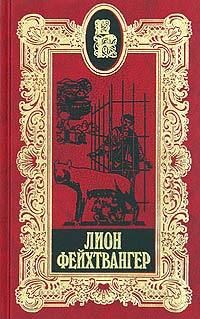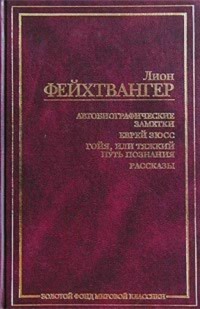полная версия
полная версияМудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо
И Фернан читал о том, как восемнадцатилетний Жан-Жак, в ту пору лакей в богатом доме, без всякой видимой надобности украл старую ненужную серебристо-розовую ленту и взвалил вину за воровство на милую горничную, безобидное существо, не причинившее ему никакого зла. Жан-Жак образно рассказывал об этом, он ничего не старался объяснить, это попросту было так, и Фернан пришел в ужас от всемогущества безрассудного и злого начала, вновь и вновь одолевающего даже таких людей, как Жан-Жак.
Все глубже и беспощадней погружался Жан-Жак в темный и вязкий лабиринт своего «я». Рассказывал о все новых «смехотворных и жалких» поступках и пристрастиях. О наивных утехах плоти и об изощренных наслаждениях в мечтах.
И Фернан читал о горьких, тяжелых разочарованиях Жан-Жака в друзьях. Среди них были величайшие мужи своего времени – Дидро, Мельхиор Гримм, создатели Энциклопедии, сам великий Вольтер, и почти все они сплотились против Жан-Жака, предали его и подвергли преследованиям. Все эти люди оказались тщеславными, мстительными, ослепленными, их учтивые, значительные лица были масками, за которыми скрывались перекошенные звериные морды, и единственный, кто устоял перед беспощадным судом Жан-Жака, был Жан-Жак.
Три дня приходил Фернан по утрам в Летний дом и читал объемистые тетради «Исповеди». Мадам Левассер давала ему их вразбивку, но он не возражал. В любую из тетрадей он впивался с мучительным увлечением. Ему хотелось читать медленно, внимательно, но он читал быстро, лихорадочно, нетерпеливо. Ведь необходимо быстро читать, не так ли? А вдруг это сумасшедшее счастье оборвется, вдруг мадам Левассер передумает, или его тайное занятие будет кем-либо предательски раскрыто, или какой-нибудь завистливый случай вообще все расстроит?
Женщины хозяйничали, в окна заглядывали деревья, канарейки рас певали в своей клетке. Фернан читал. Иногда присутствие Терезы, как он ни противился внутренне, отвлекало его. Но подчас его отвлекало именно то, что ее не было в комнате. Воображение рисовало ему, что она лежит в объятиях Николаса, и адовы муки, горевшие в словах Жан-Жака, сливались с невыносимыми картинами близости Терезы и Николаса и раздирали ему душу.
Он читал все, что рассказывал Жан-Жак о семействе Левассер. Читал об этой горькой и смешной истории, как брат Терезы сержант Франсуа, этот «американец», украл шелковые сорочки. Читал, как мадам Левассер и вся ее семья безбожно обирали «удивительно безответную» Терезу. Как сверх того старуха, внешне вкрадчиво-ласковая, даже заискивающая, шпионила и выдавала Жан-Жака его врагам. Алчность, – читал он, – я мог еще простить ей, но притворство – никак. Ее низость была мне настолько отвратительна, что порой я лишь с трудом скрывал свое презрение. Фернан был раздавлен сознанием, что вот и он воспользовался теперь услугами этой коварной старухи, и в то же время злорадствовал: ведь мадам Левассер собственноручно предоставила ему возможность прочесть все то плохое, что Жан-Жак написал о ней.
И о своем недуге рассказывал Жан-Жак, об «органическом расстройстве мочевого пузыря, влекущем за собой почти постоянное расстройство мочеиспускания». Здесь было черным по белому описано, как в Фонтенебло, после блестящего успеха оперы «Деревенский колдун», гофмаршал пригласил его явиться на следующий день во дворец, он-де его представит королю, и тот назначит Жан-Жаку ежегодную пенсию. «Первая моя мысль, – читал Фернан, – была о моей частой потребности выходите по нужде. Уже во время представления оперы это меня невыносимо терзало, и я был уверен, что на следующий день, в покоях короля, среди всех этих вельмож и дам, мой недуг еще мучительнее даст о себе знать. Мне делалось дурно от одной мысли, какой будет скандал, если на глазах у короля мне придется убежать. Лучше умереть. Только тот, кто сам испытал это состояние, знает, как ужасно одно его приближение». Значит, Тереза была права. Не гордость гражданина, а болезнь мочевого пузыря заставила Жан-Жака сделать благородный жест. И все-таки Терезино упрощенное понимание этого события неверно: Жан-Жак говорил и о других мотивах – мотивах искреннего гражданина. В простых, убедительных словах он описывал, как старался не льститься на золото и почести, чтобы сохранить независимость, и как поссорился со своим другом Дидро, который еще и после того настоятельно советовал возбудить ходатайство о пенсии. Именно эта беспощадная четкость, с какой Жан-Жак излагал все свои мотивы, толкала Фернана от восхищения к разочарованию и от разочарования к преклонению.
Потом Жан-Жак с презрением рассказывал, как один из его друзей, пожилой человек, изуродованный подагрой, расслабленный чрезмерными чувственными наслаждениями, старался увлечь Терезу, пуская в ход самые подлые и бессовестные средства: деньги, отвратительную книгу, грязные картинки. Стыд и жестокое раскаяние душили Фернана. Если Жан-Жак с таким презрением говорил о своем старом лжедруге, то как же велико было бы его возмущение им, Фернаном, своим учеником, полуребенком, который подошел к подруге учителя с грязными руками и с грязными помыслами. Но не дико ли: вот же гложет его раскаянье, а присутствие Терезы все-таки горячит его кровь. Эта женщина словно щекотала его, вызывала отвращение и возбуждала так, как ничто и никогда не возбуждало. Он силился представить себе Жильберту, надеясь, что ее чистый образ прогонит плотское желание, возникавшее от близости Терезы. Тщетно. Он попытался вернуться к «Исповеди» и не мог читать дальше.
Он побежал на озеро, он плавал долго и стремительно, точно грязь с души можно было смыть водой.
13. Продолжение «Исповеди»
Жирарден и мосье Гербер были приятно удивлены, когда в один из этих дней Жан-Жак, не предупреждая заранее, появился в замке с женой и тещей. А Фернан не знал, о чем говорить с ними, куда глаза девать. Мадам Левассер взглянула на него с едва заметной плутоватой улыбкой, и в сонном лице Терезы тоже мелькало веселое лукавство.
Жан-Жак, как всегда, держал себя просто и естественно, оживленно разговаривал с маркизом и даже мосье Гербера втянул в общую беседу. Застенчивый Гербер рассказал, как он и Фернан, когда тот был еще ребенком, устраивали спектакли кукольного театра и с каким увлечением и талантом маленький Фернан играл в них. Он умолчал о том, что в часы досуга сам сочинял для этих спектаклей наивные пьесы и что это доставляло ему большую радость. Жан-Жак с явным одобрением слушал рассказы эльзасца и, когда тот кончил, сказал:
– А что, граф Фернан, не устроить ли и нам маленький спектакль? Давайте, например, поставим моего «Деревенского колдуна», хотите?
Дружеский тон ничего не ведавшего Жан-Жака потряс Фернана.
Прощаясь, учитель сказал:
– Вы придете завтра, Фернан?
Никогда еще Жан-Жак так прямо не приглашал сопровождать его на прогулке; Фернану стало не по себе.
И на следующее утро Жан-Жак был настроен мирно, дружелюбно, меланхолически-весело. Фернан шел рядом с ним, чувствуя себя самым подлым лицемером, которого когда-либо носила на себе земля. Он был молчалив, его живое лицо выдавало душевную растерянность, как ни старался он скрыть ее. Он надеялся лишь, что Жан-Жак ничего не заметит.
Но тот вдруг спросил:
– Что с вами, Фернан? Мне кажется, что вы чем-то угнетены. Тоскуете по вашей подруге?
Фернан сгорал от стыда и муки; ему хотелось зареветь, как маленькому ребенку.
Все же назавтра, когда Жан-Жак в обычный час отправился на прогулку, Фернан явился в Летний дом; вынужденное ожидание только усилило его неистовую и сладостную жажду этой отравы – читать, читать дальше, еще и еще копаться в тайнах учителя.
И случилось так, что именно в этот день он узнал о чудовищном и страшном факте. Распространяемые врагами Жан-Жака слухи, которые он, Фернан, отвергал как злостную клевету, оказались правдой. Вот тут все написано изящным, твердым почерком Жан-Жака, его недрогнувшей рукой; он действительно требовал от Терезы, чтобы их детей подбрасывали в Воспитательный дом, и не одного, а всех. И об этом леденящем душу поступке, оскорбляющем человеческую природу и человеческие чувства, он повествовал как о самом обычном, самом естественном явлении в мире. Повествовал со всеми подробностями, не стремясь «ни оправдать себя, ни обвинить». Он избрал этот «выход из затруднений» весело и смело, без малейших колебаний, и перечислял доводы в оправдание своего поступка – ясные, прозаические, будничные. Во-первых, так уж оно повелось. Во-вторых, он хотел спасти честь Терезы, с которой еще не состоял в законном браке. В-третьих, он лишь следовал собственным принципам: как гражданин и отец он предпочитал сделать из своих детей ремесленников и крестьян, а не авантюристов и ловцов счастья. Только одна трудность стояла на его пути: надо было сломить сопротивление Терезы. Как ни странно, но нелегко было убедить ее такой ценой спасать свое доброе имя и честь. «Она подчинялась, горько рыдая», – рассказывал Жан-Жак.
Фернан читал это в присутствии той самой женщины, у которой «отбирали ее новорожденных», и сердцем он был с Терезой; простые, циничные слова Жан-Жака заставляли его содрогаться. Какую муку должна была претерпеть эта ограниченная, слепо следующая своим инстинктам женщина, когда у нее отбирали детей!
Фернан вернулся к ранее прочитанному. Заново перелистал все, что Жан-Жак писал о Терезе. Он читал с жгучим, невыносимым любопытством, жадно перевертывая страницы, пожирая каждое слово, которое относилось к Терезе. Было здесь много критически-холодного и сердечно-теплого, низменного и искренне возвышенного.
Фернан читал, как Жан-Жак впервые увидел Терезу в маленьком захудалом отеле «Сен-Квентен», и как он, тронутый ее скромностью и кротким, чистосердечным выражением глаз, защитил ее от нахалов, грубо подтрунивавших над ней, и как она отблагодарила его тем, чем могла, – отдалась ему. Как вскоре затем между ними возникло недоразумение. Тереза, впервые переспав с ним ночь, повела загадочные речи о каком-то признании, которое она должна ему сделать. Он с ужасом подумал, что она больна и заразила его. Несколько дней, встречаясь, они избегали прямого разговора, пока наконец она не спросила, не заметил ли он, что она уже не девственница. «Как только я понял ее, – рассказывал Жан-Жак, – я радостно воскликнул: «Девственность! Кто надеется найти ее в Париже? Да еще у двадцатилетней девушки. Ах, дорогая моя Тереза, как я счастлив, что ты такая порядочная девушка, а главное – здоровая».
И Фернан читал: «Вначале я ничего другого не искал, кроме развлечения, а нашел спутницу жизни. Я думал только об удовлетворении страсти, а воздвиг фундамент своего счастья».
Потом, однако, Фернан прочел: «В первое время я пытался развить ее ум. Напрасный труд. Ее внутренний мир остается таким, каким его создала природа; она не поддается никакому воспитанию. Я без краски в лице признаюсь, что она так и не выучилась как следует читать, а пишет с грехом пополам. Целый месяц я старался научить ее, как определять время по часам; она по сей день не умеет этого сделать. Она не умеет подряд перечислить название месяцев, у нее нет ни малейшего представления о самых простых правилах арифметики. Она неправильно сочетает слова и часто говорит противоположное тому, что думает. Ее невежество, ее ляпсусы – излюбленная тема для пересудов среди моих друзей; однажды, чтобы позабавить мадам де Люксембург, я составил целый список комических выражений Терезы. Однако в затруднительных случаях эта ограниченная и, если угодно, глупая женщина нередко поражала меня своими верными суждениями, а ее советы неоднократно уберегали меня от серьезной опасности».
И снова: «Но даже самое полное слияние двух тел никогда до конца не удовлетворяло меня. Мне всегда страстно хотелось слияния двух душ в одном теле». Потом еще: «У меня с Терезой в конце концов нет никаких общих мыслей и представлений, а окружающая природа пробуждает во мне чувства, которые она не в состоянии разделить со мною. В деревенском же уединении нужен друг, который может понять твои чувства».
Фернан читал, изумленный, потрясенный. Вот в одной комнате с ним сидит Тереза во плоти, не подозревая, что здесь, на страницах рукописи Жан-Жака, живет другая Тереза, превозносимая за свою доброту и преданность, но беспощадно оголенная, во всем своем убожестве и ничтожестве; Тереза призрачная и бессмертная и гораздо более реальная, чем та, живая, которая сидит тут, рядом.
«Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, который окончательно определил мой внутренний мир. Наш союз прошел испытание временем и всеми превратностями судьбы и лишь стал теснее от ударов, которые могли бы его разрушить».
Но на следующей странице было сказано: «Что же подумает читатель, если я со всей присущей мне правдивостью, в которой он, вероятно, уже убедился, заявлю, что с первой минуты, как я увидел Терезу, и по сегодняшний день я не испытал к ней ни искорки любви. Близость с ней удовлетворяла мои чувственные потребности, но это только потребности тела, не имеющие ничего общего с моей личностью». Так здесь было сказано, обнаженно, цинично. Фернан был подавлен.
И дальше Жан-Жак заявляет ясно, коротко, черным по белому: «Она лишена даже тени какой бы то ни было неестественности или кокетства. Мне ничто не угрожало со стороны посторонних мужчин. Я уверен, что, кроме меня, Тереза никого по-настоящему не любила, и ее умеренная чувственность никогда не толкала ее к другим мужчинам, даже после того, как я перестал быть ей мужем».
Фернану показалось, что он что-то, по-видимому, не понял, он перечел последние строки во второй и в третий раз.
Как могло случиться, чтобы человек, заглянувший в тайны природы и в отношения людей глубже, чем кто бы то ни было, мог быть так слеп, когда дело касалось собственной жены, с которой он прожил жизнь!
В самом ли деле он так слеп? Или он хочет быть слепым? А величие, соединенное со Столь удобной слепотой, – вправе ли оно еще называться величием?
Но кто такой он, Фернан, дерзнувший быть судьей Жан-Жака? Да, он тщательно изучал произведения Жан-Жака, несколько недель живет с ним бок о бок, и, оказывается, он ничего о нем не знал и ничего вообще не понимал.
А теперь Фернан что-нибудь знает о нем? Может ли быть, чтобы в одном лице соединялись тот, кто на страницах «Исповеди» жил чудовищной, бесстыдной жизнью, терпел неслыханные муки и причинял другим неслыханные муки, и тот, кто вчера так мирно гулял с ним, собирал гербариум, способен был пожалеть каждого бедняка и любую живую тварь? Кто же из этих двух подлинный Жан-Жак? Тот простой человек, который заговаривал с каждым лесным сторожем и выслушивал поучения папаши Мориса, хозяина трактира «Под каштанами», или тот, кто ставит себя в пример всему человечеству?
«Таков я, Жан-Жак, гражданин Женевы. Есть ли на земле еще кто-нибудь, кто так глубоко познал бы ужасы жизни? На долю которого выпало бы больше страданий, чем на мою? Ecce homo. Все не правы, кроме меня».
А если это так? Если Жан-Жак прав, а все остальные не правы? Разве нет у него в таком случае оснований для беспредельной гордости? «Ведь это он провидел и открыл Новый Свет. Он более смелый первооткрыватель, чем Колумб. Иначе как устоял бы он, такой хилый телом, под тяжестью своих огромных знаний? Разве удержался бы он на ногах без своей непомерной гордыни?
Смешанное чувство восхищения, испуга, сострадания, благоговенья и легкого цинического презренья волновало Фернана. И оттого что фигура Жан-Жака, чем больше он узнавал о нем, представлялась ему все непонятнее и неопределеннее, все другие люди тоже теряли свои определенные очертания. Образы его близких бесконечно менялись. Устойчивой действительности не существовало более. Жизнь, которую Фернан видел вокруг себя, – это была всего-навсего поверхностная тонкая корка; и лишь под ней начиналась настоящая многообразная и непостижимая жизнь.
Все последнее время Фернан почти не спал. По ночам он мысленно видел перед собой изящные, четкие буквы на страницах «Исповеди», они оживали, превращались в людей и предметы, о которых повествовали. Он сам, Фернан, был Жан-Жаком. Совершал уродливые преступления Жан-Жака. Жил на содержании возлюбленной намного старше его. Отрекался от своей веры. Отрекся потом и от новой веры, чтобы вернуть себе право гражданства в своем родном городе Женеве. Любил женщин, которыми никогда не обладал, и обладал женщинами, которых никогда не любил. Подкидывал собственных детей, плоть от плоти своей. Предавал друзей. Обвинял себя и приводил в свое оправдание никчемные доводы. Презирал себя и бахвалился этим презрением. И что бы он ни делал, он всегда был прав. Он чувствовал себя единственным праведником на земле. И что самое удивительное: он был им.
Эти дни, эти недели Фернан жил не в Эрменонвиле, он жил в мире Жан-Жака, в чудовищном мире «Исповеди». Его собственный мир был теперь таким же. Ведь если бы он, Фернан, с той же правдивостью, что и учитель, описал свою юную жизнь, разве не оказались бы и в ней такие же страшные пропасти, как те, в которые падал Жан-Жак? И он, Фернан, не любит Терезу, у него нет с ней ничего общего, никакой большой, безумной страсти он к ней не питает, а если он близок с ней, если обманывает учителя и погряз в болоте, то потому лишь, что низменное, грязное влечет его к себе, потому что он насквозь испорчен. А что он еще вдобавок ко всему ходит в Летний дом и копается в тайнах учителя, что это, как не безмерная подлость?
Но запретность, бессовестность этого чтения делали его только более захватывающим. И пусть бы пришлось расплатиться за него еще более жгучими муками, он все равно с жадностью продолжал бы вкушать от древа познания. Что по сравнению с глубокой двуликой мудростью этой книги все истины, провозглашенные великими мыслителями древности, или откровения Библии, или учения классиков его родной Франции? Каким страшным испепеляющим правдолюбием обжигают страницы «Исповеди», какой сокрушающей, благодатной страстью к двуликому Янусу познания!
14. Что есть истина?
На долю Фернана выпала нелегкая юность. Мосье де Жирарден, с удовольствием и с гордостью вспоминая о временах, когда он служил генералом, весьма огорчался, что у Фернана нет вкуса к дисциплине и склонности к военному делу. Стремясь закалить мальчика, он послал тринадцатилетнего Фернана в военное училище, славившееся своей строгой муштрой. Это учебное заведение посещали главным образом сыновья богатых представителей третьего сословия и чиновной знати. Учителя и начальники, стараясь подчеркнуть свое полное пренебрежение к титулу графа Брежи, обращались с Фернаном особенно сурово; товарищи – сознательно или бессознательно – также проявляли недружелюбие к будущему сеньору Эрменонвиля, перед которым открывалась легкая и блестящая карьера: они чурались его или открыто выказывали неприязнь. Чувствительного Фернана терзали физически и морально, порой он думал, что не вынесет этого больше, не дотянет до конца. Позднее, когда отец взял его с собой в дальнее путешествие и он, Фернан, убедился, как горячо отец его любит, и еще позднее, когда он нашел в Жильберте свое большое счастье, он твердо поверил, что вместе с канувшими в лету горчайшими годами военного училища он навсегда избавился от самого страшного, что может быть у него в жизни. А теперь он по собственной вине запутался в таких похождениях, что по сравнению с их ужасающей гнусностью годы в училище в полном смысле слова – детские игрушки.
Он решил во всем признаться учителю. И не смог, спасовал.
Он решил написать Жильберте, другу сердца, рассказать ей о своем запретном чтении, исповедаться в своей связи и сообщничестве с Терезой и сделать это с такой же фанатической откровенностью, с какой рассказал о своей жизни Жан-Жак. Как только все, что его угнетает, будет черным по белому излито на бумаге, он, быть может, выкарабкается из пропасти, куда его завлекла неслыханная дерзость.
Только еще обдумывая это решение, он уже знал, что не выполнит его. Ему отказано в способности говорить о своих мерзких, грязных делах с мужественной деловитостью Жан-Жака. Он приукрасил бы свои поступки, он мелодраматично обвинял и оправдывал бы себя, он хныкал бы по поводу своей испорченности. И все было бы ложью. Ему вовсе не хочется расстаться с этой испорченностью, ни за что на свете. Он горд тем, что он такой, какой есть.
И связь с Терезой он вовсе не хочет рвать. Он содрогался, когда думал о Терезе, но знал, что стоит ей сказать своим грудным ленивым голосом: «Не желаете ли, господин граф, пройтись со мной?» – и где бы он ни находился, он вскочит и побежит за ней. Жаркая похоть, исходившая от нее, ее запах, ее бездонная невинная развращенность, ее медлительная, дразнящая походка, усилие, с которым она нанизывала слова, чтобы выразить свое глухое нутро, даже отвращение, которое она ему внушала, – все это были звенья одной цепи, которой она его опутывала.
Тереза не предложила ему пойти погулять с ней, когда они в первый раз после их сближения увиделись. Ее разочаровало, что он так смущен и сдержан. Что же, может, он раскаивается, что полюбил ее? Или, может, растратил всю свою любовь в том единственном объятии? Но инстинкт подсказывал ей, что это не так. Просто он граф и поэтому стесняется. Теперь она почти безвыходно сидела дома, когда он читал рукописи Жан-Жака, и с удовлетворением, отмечала про себя, что ее присутствие кружит ему голову; стоило ей только глянуть на него, и он утрачивал спокойствие. Но она не поощряла его.
Два раза Фернан не заставал ее дома, и оба раза она, как он с горечью, издевкой и яростью догадывался, была с Николасом. Но удовольствия эти встречи ей не доставили. Она боялась рассказать Николасу, что мать отвергла его совет предпринять что-либо с писаниями Жан-Жака. А Николае ждал и, так как она отмалчивалась, спросил в упор:
– Вы говорили с вашей уважаемой матушкой, мадам?
– Еще нет, – ответила она робко.
Он сердито насупился, замолчал, а когда она попыталась обнять его, отстранился и заявил, что сегодня ему не до глупостей.
– Для этого у тебя есть твой графчик, – сказал он едко, и она поняла, что, пока не уладит дело с писаниями Жан-Жака, Николас не подарит ей своей любви.
Зато Фернан, приходивший обычно днем, вдруг явился как-то вечером, когда Жан-Жак был в замке. Обе женщины сразу поняли, что он пришел за Терезой.
Тереза надеялась, что Николас воспользуется этим вечером, она долго ждала его; однако, желая, очевидно, ее наказать, он не пришел. Она была раздражена и злыми глазами смотрела на Фернана. Старуху возмущала глупость дочери; она решила помочь молодому графу.
– Отчего бы вам с Терезой не прогуляться? В такую теплую ночь хорошо подышать свежим воздухом, – сказала она без дальних околичностей.
Фернан беспомощно и вопросительно посмотрел на Терезу, но Тереза, бесстыдно глядя на него, протянула:
– Мне сегодня неохота.
Фернан, посрамленный, ушел. Он бежал сквозь ночь, уничтоженный, изнемогая от ярости. Но ярость его обратилась не против Терезы, а против Жан-Жака. После чудовищного зла, которое тот причинил Терезе, она другой и не могла быть. Фернан все больше распалялся против учителя. Он, проповедующий в «Эмиле» самые благородные, самые мудрые принципы воспитания, попросту обязан был сам вырастить своих детей.
Женщина, которой пришлось столько вытерпеть, заслуживает сострадания, Фернану хотелось приласкать ее. Воспоминание об ее глазах волновало его. Необузданные, сладострастные образы «Исповеди» заполонили его, смешались с игрой собственного воображения. Он мечтал об объятиях, еще более жарких, еще более неистовых, чем в тот раз, на берегу озера.
Тереза, которую Николас и в последующие встречи отстранял от себя, в свою очередь, раскаивалась, что так нехорошо обошлась с молоденьким графом. Теперь она обоих лишилась. А ведь граф ничего дурного не думал, он попросту мечтатель, ребенок, глупый и неловкий. Нельзя углублять их нарочитый разрыв, не то плакала эта милая дружба. Всего только раз побаловаться с ним – такое ей и в голову не приходило.
Она подстерегла Фернана. Именно так, как ему грезилось, как он того» боялся, она сказала:
– Не пройтись ли нам с вами как-нибудь опять, господин граф?
Они встретились в тот же вечер. Все было, как в его мечтах, шквал страсти смыл все колебания и, ослепив, с неистовой силой захлестнул его.
Потом они сидели на дерновой скамье под ивой. Тереза исходила нежностью.
– Фернан, – сказала она своим грудным голосом, упиваясь звучанием этого имени. – Ведь я могу называть тебя Фернаном, да? – спросила она гордо и влюбленно. Впервые она обращалась к нему на «ты». – С аристократами мне еще никогда не приходилось это делать, – сказала она раздумчиво.
Ей пора было домой, но она не уходила. Фернан ведь совсем не то, что Николас, он не просто возлюбленный, он действительно ее друг, с ним можно и поговорить. И со свойственной ей угловатостью она попыталась объяснить Фернану, что она совсем не безнравственная. Жан-Жак – добрейший человек, он – святой, но он не мужчина. Во всем виновата его болезнь. Даже когда он был молодой, давным-давно, он часто по нескольку месяцев, а иной раз по году не был с ней близок и лежал рядом неподвижный и бесчувственный, как кусок дерева. Она имеет полное право на настоящего мужчину, даже мать, а ведь она строга, признает это.