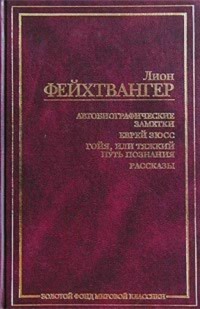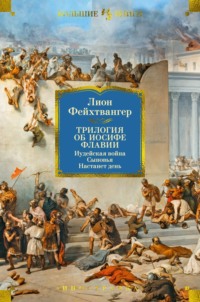полная версия
полная версияНастанет день
Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле Домитиллы и минеев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии.
Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император верховного богослова и примет ли вообще, относился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу верховного богослова об аудиенции, это была его обязанность. Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания DDD положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким.
В конце концов друзья евреев попытались поставить дело Гамалиила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марулл заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. Разве вообще поднят вопрос об университете в Ямнии? – удивился он. А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд? Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается, и это может быть истолковано только как проявление терпимости, даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немыслимо, оно было бы возможно, только если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания – один из столпов, на которых покоится Римская империя; посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза для всех центров их культа. Закрытие университета в Ямнии явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения.
Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану, как к хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми близорукими глазами молча, задумчиво и рассеянно, потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что его слова произвели на DDD некоторое впечатление. Так оно и было. Домициан подумал про себя, что в доводах Регина есть смысл. Но они пришлись совсем некстати. Ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок, хотел сохранить свободу действий, – пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря, ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину.
Нет, он лично не может согласиться, начал Криспин, сюсюкая и пришепетывая (так говорили по-гречески снобы в университетах Коринфа и Александрии, и этот выговор считался аристократическим), – он никак не может согласиться с тем, будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил. И раньше случалось, что не только посланцев, даже царей варварских народов заставляли месяцами ждать аудиенции. Когда египтянин, дав волю своей ненависти, назвал евреев варварами, все подняли головы и украдкой взглянули на императора. Но тот был неподвижен.
Министр полиции Норбан поспешил на помощь Криспину.
– Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал, – это навязчивость и дерзость, – заявил Норбан. – Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба – пусть соблаговолит обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим прибыл из Ямнии верховный жрец, евреи очень обнаглели. Закрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость.
Норбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными нелепыми завитками свисающих на лоб жестких иссиня-черных волос оставалось бесстрастным, а интонации – деловито-сдержанными. Но шитые белыми нитками возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы доводы Регина. Домициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать, – Анний Басс. Госпожа Дорион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана; она повторяла их до тех пор, пока Анний не стал считать их своими собственными. Конечно, обстоятельно разъяснял он, согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует щадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели, они отняли у великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики, ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой. Даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами, – те поймут это и не будут делать ложных выводов. Ведь евреи искони стремились быть избранным народом и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягве тоже не такой, как боги других народов, он не настоящий бог, у него нет изображений, нельзя поставить его статую в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа, это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима – действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве – это просто-напросто синоним государственной измены.
Столь глубокомысленные речи от простого солдата Анния Басса советники императора не привыкли слышать. Марулл и Регин улыбались; они догадывались, в чем тут дело, – за этими рассуждениями явно стояла госпожа Дорион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений.
Хватит разговоров про верховного богослова и университет. Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом.
На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы.[35] Манекен, облаченный в одежды Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанья; они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями.
Домициан решил посоветоваться с ними, как ему быть в трудном споре с чужим богом Ягве. Ибо разделились не только голоса его советников, но и голоса, звучавшие в его собственной душе. Ему хотелось и разрушить высшую школу в Ямнии, и властной рукой защитить ее. Он никак не мог принять решение.
С Митрой или Изидой можно поладить; им можно воздвигнуть статуи, известно немало способов их умилостивить, если оскорбишь их почитателей; но как быть с этим богом Ягве, когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности, подобен несущим лихорадку болотным испарениям и их блуждающим огонькам: их нельзя схватить, их можешь познать только по вредоносному действию.
Анний Басс как-то рассказывал ему, что дом этого Ягве, белый с золотом храм, «то самое», как называли его римские солдаты, одним своим видом угнетал души осаждающих, вызывал в них болезнь. Он тогда их чуть с ума не свел. Тит всю жизнь боялся мести бога Ягве, ибо оскорбил его, разрушил его дом. И последнее, что он сделал, он попросил прощения за эту обиду у еврея Иосифа.
Он, Домициан, не ведает страха, но он верховный жрец, он представляет на земле Юпитера Капитолийского, он почитает всех богов, и он избегает затевать ссору с чужим богом и его верховным жрецом. Он будет обращаться осторожно с этим богословом. Ведь евреи хитры. Подобно тому как отряды римлян идут на штурм «черепахой»[36], спрятавшись под кровлей из щитов, так же прячутся и евреи под покровом своего невидимого бога.
Но, может быть, это все обман? Может быть, его совсем не существует, их невидимого бога?
Собственные боги должны ему помочь, дать совет. Поэтому-то он и облекся в торжественные одежды и пригласил их в гости, поэтому вкушает с ними пищу, поэтому на золотых тарелках перед ними лежат окутанные паром куски свинины, баранины и телятины.
Он старается быть достойным таких гостей, тянется вверх, силится придать своему лицу такое же выражение, как на его статуях: голова с львиным лбом чуть откинута назад, брови угрожающе сдвинуты, ноздри слегка раздуваются, рот полуоткрыт – и вот он погружает взгляд в глаза божественных сотрапезников, ожидая, что они просветят его, дадут совет.
Так как Юпитер молчит и Юнона тоже не подает голоса, он обращается к Минерве, своей любимой богине. Вот она перед ним. Он избавил ее от дешевой идеализации, от миловидности, которую скульпторы придавали ее изображению, и вернул ей совиные очи[37], которые были у нее искони; их вставил Критий, великий мастер. Да, для него, Домициана, она – совоокая Минерва. Он чувствует в ней зверя, как чувствует зверя в себе, – мощную первобытную силу. Своими большими, близорукими глазами навыкате смотрит он не отрываясь в большие, круглые совиные глаза богини. Он ощущает глубокую связь с ней. И он обращается к ней; вслух, не смущаясь растерянных слуг, которые стараются не слышать и все же вынуждены слышать, он заговаривает с ней. Он пытается придать своему резкому голосу мягкость, называет богиню всякими хвалебными и ласкательными именами – греческими, латинскими, всеми, какие ему только приходят на ум.
Покровительница града сего, говорит он ей, Хранительница ключей, Защитница, маленькая любимая Воительница, что всегда в первом ряду, моя Непокорная, Побеждающая, Захватчица добычи, Изобретательница звучных флейт[38], Помощница, Премудрая, Прозорливица, Искусница.
И – удивительное дело! – она наконец снисходит и отвечает ему. Этот Ягве, говорит она, лукавый бог, восточный бог, он ужасный хитрец. Он желает обмануть тебя, римлянина, со своим университетом в Ямнии. Он хочет вовлечь тебя в кощунство, чтобы получить повод покарать и погубить тебя. Ибо он мстителен, и так как твой брат уже у подземных богов, он примется за тебя и задаст тебе. Держись спокойно, не поддавайся соблазну, наберись терпения.
Домициан усмехается своей долгой, мрачной усмешкой. Нет, богу Ягве не провести бога Домициана. Он и не подумает упразднить этот дурацкий университет в Ямнии. Но открывать свои планы верховному богослову он тоже не будет. Если бог Ягве требует от него, Домициана, терпения, то он, император Домициан, потребует терпения от его верховного жреца. Пусть этот Гамалиил покорчится от страха. Пусть растает, раскиснет от одного ожидания.
Весело, полный благодарности, прощается Домициан со своими богами.
И верховный богослов ждал.
Скоро ясной погоде конец, скоро наступит зима, и путешествие по морю станет невозможным. Если верховный богослов хочет вернуться в свою Иудею, пора собираться в дорогу.
Он не собирается в дорогу. Ему все равно, что его продолжительное пребывание в Риме производит уже странное, даже неприятное впечатление. Ни одним словом не обмолвился он о том, как его мучит молчание императора, дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гамалиил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно.
Обычай требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн Гисхальский старался уговорить его; но Иосиф все не шел. В Иудее он был свидетелем тех жестокостей, к которым иногда вынуждал Гамалиила его сан верховного жреца всего еврейства, и какие бы оправдания для этой суровости ни находил рассудок Иосифа, его сердце не принимало ее.
Невзирая на обиду, Гамалиил пригласил его к себе.
За те шесть лет, что Иосиф его не видел, верховный богослов очень постарел. В его коротко подстриженной квадратной рыжеватой бороде, скорее подчеркивавшей, чем скрывавшей рот и подбородок, уже блестели серебряные нити, и когда этот статный и крепкий господин полагал, что за ним не наблюдают, его плечи опускались, карие глаза в глубоких глазницах теряли свой блеск, а выступающий вперед подбородок – свою решительность.
Как будто за это время ничего не произошло, Гамалиил начал разговор с того, на чем он закончился шесть лет назад.
– Какая жалость, – сказал он, – что вы тогда отказались от моего предложения представлять нашу внешнюю политику в Кесарии и в Риме. Среди нас есть много людей, обладающих недюжинным умом, но мало таких, которые могли бы помочь человеку, обреченному руководить политикой евреев. Я очень одинок, Иосиф.
– А я считаю, что поступил тогда правильно, – ответил Иосиф. – Дело, которое вы хотели поручить мне, требовало и жесткости и гибкости. У меня нет ни того, ни другого.
Гамалиил и на этот раз держался с ним вполне доверительно. Ни словом не дал он Иосифу понять, что за ото время тот во многом утратил уважение соплеменников. Наоборот, он говорил с ним, как с равноправным вождем еврейства. Он обхаживал Иосифа, казалось даже, будто он считает своим долгом отчитаться перед ним в своей политике.
Верховный богослов пытался доказать, что тот жестокий удар, которым он тогда отсек минеев от иудеев, был оправдай всем дальнейшим ходом событий.
– В чем мы нуждались, – пояснил он, – так это в ясности. И теперь она у нас есть. Теперь установлен единственный, помимо веры в Ягве, конечно, критерий, по которому мы решаем – наш этот человек или нет, еврей он или нет. И этот критерий – вера в то, что мессия явится только в будущем. Тот, кто верит, что он уже явился, кто, таким образом, отказывается от надежды на возрождение Израиля, кто отказывается от восстановления Иерусалима и храма, – такой человек нам совершенно чужд. Откровенно признаюсь вам, Иосиф, я уверен, что страдания, которыми нас поразил господь, пошли на благо. Испытания помогают нам отличать тех, кто достаточно силен, чтобы сохранить надежду, от мягкотелых, от тех, кто готов отречься от себя, потому что их распятый мессия якобы принес себя в жертву. Пусть минеи с их сладостным и соблазнительным Евангелием вербуют новых сторонников. Я не жалею о примыкающих к ним, они никогда не были настоящими евреями! Ягве минеев, этого так называемого всемирного Ягве, теперь спасать незачем, мы должны от него отказаться, нам не нужен бог, который ускользает, как только хочешь его ухватить, за него удержаться. А с помощью закона и обычаев мы спасем хотя бы Ягве Израиля.
Ах, Иосиф уже слышал эту песню. Он уже сотни раз убеждался на опыте, что если человек хочет заниматься политикой, ему приходится подмешивать к своей истине немало лжи.
– Тому, кто идею не только возвещает, – сказал верховный богослов, – тому, кто за нее идет в бой, приходится кое-чем в ней и поступаться. Человеку, который пишет, нужны лишь голова да пальцы; а тот, кто послан в мир действия, нуждается и в крепких кулаках.
Нет, сказал себе Иосиф, я был прав, удалившись от мирской суеты и предпочтя ей созерцание.
– А нашу Ямнию мы должны спасти! – решительно перешел к делу верховный богослов. – Пусть о моей политике думают что угодно: Ямнию мы спасти должны! Если бы не семьдесят один богослов, которые сидят там, в Ямнии, еврейству пришел бы конец, Ягве исчез бы из мира. Не кощунство ли это? – обратился он к самому себе, испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом. – Но я верю, что каждый еврей в сердце своем думает так же, – успокоил он себя.
Иосиф смотрел в открытое, смуглое энергичное лицо этого человека. Успех служил Гамалиилу оправданием. Благодаря несокрушимой воле к действию ему удалось, с помощью смехотворно маленького университета, удержать Ягве в Иудее. Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямнией, храм – школой, синедрион – коллегией. Теперь существовало новое убежище, и, только уничтожив Ямнию, можно было уничтожить еврейство.
Гамалиил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор:
– Перед вами, Иосиф, я спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университет и коллегия в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которое у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория и начинается практика судопроизводства, где богословие переходит в политику! Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии – разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснения, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти ни принудить его, ни запретить ему. Может быть, даже вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно, его побуждений мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями римского сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства – богословия, учения, ритуала.
Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрой улыбке и обнажили крупные редкие зубы.
Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали:
– Ну скажите сами, доктор Иосиф, – воскликнул он, и голос его ожил, – скажите сами, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ, целый народ так небывало дисциплинирован? Что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца? Что, кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его бог? Разве такая самодисциплина не единственное в своем роде, великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ, его неудержимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить – это самое возвышенное и удивительное, что мы видим на нашей оскудевшей и померкшей земле.
Иосиф почувствовал все воодушевление этого человека, оно захватывало, но то, что Иосиф мог возразить ему, не теряло своей силы. Да, там было сделано великое дело, с удивительной проницательностью и неодолимой энергией был создан сосуд, чтобы удержать растекающийся дух. Но именно поэтому дух оказался теперь запертым в этом сосуде, его стеснили, сузили, чем-то в нем пожертвовали, а то, чем пожертвовали, было Иосифу слишком дорого.
– Итак, римляне, – снова продолжал Гамалиил легким и веселым тоном, – конечно, чуют, какое опасное и мятежное начало таит в себе этот наш университет в Ямнии. Однако, – и теперь лицо Гамалиила выражало лишь веселое лукавство, – им никак не удается нащупать, где именно кроется опасность. Римляне способны постигать мир лишь постольку, поскольку его удается втиснуть в юридические формулы; иного рода духовность им недоступна, по сути своей – они варвары. Но достигнутое нами совершенно невозможно втиснуть в какую-либо юридическую формулу. Мы во всем покорны, мы услужливы, мы себя не компрометируем, сами подавили свое восстание. Словом, если не извращать римское право и римскую традицию, то наш университет неуязвим. А разве сам император Домициан не считает, что боги предназначили его быть хранителем римского права и римской традиции?
Однако нельзя забывать о наших врагах, их много, и они могущественны. Это принцы Сабин и Клемент и все их приверженцы, это военный министр Анний Басс и ваша бывшая супруга Дорион, это весь минейский сброд. Все эти враги настоятельно просят императора наложить на нас запрет, и он охотнее всего уступил бы их просьбам. Значит, единственное, что оберегает нас от гибели, – это благоговение императора перед традицией, перед римскими принципами. И он колеблется между своим… правосознанием, что ли, и неприязнью к нам, раздутой нашими врагами, он не решается, ждет, просто не желает нас выслушать, не допускает нас к себе. С его точки зрения, это лучшее, что он может делать. Таким способом он избегает решения, ему ненавистного, то есть закрытия университета в Ямнии, а вместе с тем, заставляя меня ждать здесь аудиенции, ослабляет наш престиж, делает Ягве и еврейство посмешищем, разрушает нашу Ямнию исподволь.
Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал верховный богослов.
А тот задумчиво продолжал:
– Я бы уж знал, как взяться за этого императора. Я бы постарался ухватиться за его поклонение традициям, за его религиозность. Ибо, как ни странно, для этого человека религия существует; иначе многого, что он делает или чего не делает, не объяснишь; пусть это религия очень темная, очень языческая, он наверняка верит во всяких Ваалов, но это все же религия, и с этой религии надо и начинать. Следовало бы пойти на хитрость, следовало бы для него сделать Ягве Ваалом, неуклюжим, опасным кумиром, божеством, как он его понимает, – страшным и угрожающим. А может быть, это тоже кощунство? Не звучат ли такие слова богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягве? Но в наше время он больше чем когда-либо должен быть политиком. Любое средство годится, если благодаря ему народ Израиля вынесет третий переход через пустыню[39] и не погибнет. А народ этот должен жить! Ибо идея, ибо Ягве не может жить без своего народа!
Тут Иосиф испугался в сердце своем, последняя фраза Гамалиила была действительно кощунством и богохульством, именно потому, что ее произнес верховный богослов. Вот на какие опасные вершины политика заносила человека, не желавшего ничего, кроме бога и служения богу.
– Да, уж я бы знал, как взяться за императора, – продолжал Гамалиил. – Но вся беда в том, что он не допускает меня к себе. Признаюсь вам, – вдруг гневно воскликнул он, – порой я горю от нетерпения и ожидания! И не ради себя – я не тщеславен и умею переносить обиды. Но дело ведь идет не обо мне, а об Израиле. Наша встреча должна состояться. Однако наши друзья, несмотря на всю их ловкость и добрую волю, на этот раз бессильны. Регину это не удается, Маруллу не удается. Иоанну Гисхальскому не удается. Есть только один человек, которому, может быть, это удалось бы, и этот человек – вы, Иосиф. Помогите нам!
После такого призыва Иосиф молчал, обуреваемый противоречивыми чувствами. Трудно было уклониться от настойчивой просьбы верховного богослова. Решительная политика этого человека, отрекшегося от бога всей земли, чтобы послужить богу Израиля, столь же сильно отталкивала Иосифа, сколь и привлекала. Гамалиил требовал от него действий, требовал активности, предприимчивости, то есть как раз всего, чего Иосиф за последние годы так тщательно избегал. Тот, кто хочет действовать, должен идти на компромисс; кто хочет действовать, должен заставить свою совесть молчать. Верховный богослов для того и предназначен, чтобы совершать деяния, в этом его задача, у него есть на то и ум и власть. Его же, Иосифа, сила только в созерцании, его дело – представить себе историю своего народа и осмыслить ее; а когда он начинал действовать сам, он оказывался обманщиком и пустозвоном.
То, что он, Иосиф, думает, говорит, пишет, даст возможность людям в далекие грядущие времена увидеть теперешние события такими, какими он, Иосиф, хотел их видеть, и это, быть может, определит деяния потомков. А то, что говорит и думает Гамалиил, тут же становится историей, становится сегодня и завтра судьбою людей. Иосифа разрывали противоположные стремления. Стены, в которых он так искусно замкнулся, чтобы сберечь свой покой, рухнули. И он обещал верховному богослову исполнить его просьбу.
Когда Иосиф попросил аудиенции у Луции, она приняла его на следующий же день.
Луция разглядывала его с нескрываемым интересом.
– Должно быть, мы около двух лет не виделись с вами, – сказала она. – Но когда я сейчас смотрю на вас, мне кажется, прошло целых пять. Я ли так изменилась за время ссылки, или вы стали другим? И я разочарована, мой Иосиф, – продолжала она непринужденно. – Вы постарели. И на нечестивца вы больше не похожи.
Улыбка пробежала по лицу Иосифа, изборожденному морщинами; значит, она еще помнит возглас, вырвавшийся у нее при виде его незавершенного бюста: «Вы же нечестивец».